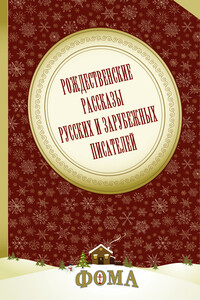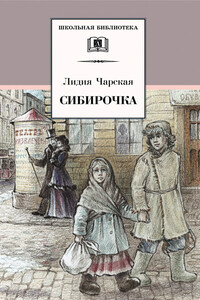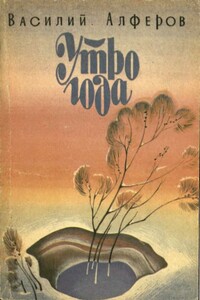Сама Белая, или, вернее, Антонина Николаевна Марко, едва держалась на ногах от волнения.
Когда Миша объяснил наскоро причину ее волнения Зиночке, та только всплеснула руками и бросилась хлопотать подле бесчувственной Ксани.
— От счастья не умирают… Она очнется, ваша дочурка… О, Антонина Николаевна, если бы заранее знать это все, — смеясь и плача лепетала по-детски Зиночка.
Общими усилиями удалось привести Ксанию в чувство.
Она открыла свои большие глаза, увидела склоненное над ней дорогое лицо и поняла все.
Смуглые руки в тот же миг обвили шею Белой, и горячие губы прижались к ее губам.
— Моя мама жива! Вернулась моя мама! — прошептала она, дрожа от восторга и любви.
Градом поцелуев отвечала на ласки дочери Антонина Марко. И обе замерли в объятиях друг друга.
Зиночка, Миша и дети незаметно скрылись, чтобы дать возможность матери и дочери побыть одним.
Наступили острые, блаженные минуты нечеловеческого счастья. Руки матери обвивали чернокудрую головку Ксани, тонкие, прекрасные пальцы перебирали ее локоны. Большие, любящие, восторженные глаза смотрели в глаза девушки и не могли насмотреться.
Ксаня целовала руки и голову матери, прижималась к ее груди и говорила, говорила, не умолкая.
Откуда брался поток нежных слов, которыми она осыпала мать!.. Ласка, неведомая раньше угрюмой и озлобленной душе лесовички, теперь захватила все ее сердце.
— Мама… родная… голубка-мама… цветочек мой лесной… моя звездочка ясная! — шептала она и снова осыпала лицо и руки матери градом исступленных поцелуев…
Когда первый приступ острого счастья миновал, Антонина Марко, волнуясь и спеша, говорила Ксане:
— Детка… жизнь моя… с тех пор, как я оставила тебя малюткой у Норовых и уехала из лесной сторожки, я не имела покоя… Дни и ночи я только и думала о тебе… О, я никогда не рассталась бы с тобою, если бы исключительно тяжелые обстоятельства не принудили меня к этому…
И она рассказала Ксане о своей горячей дружбе с Машей Норовой, о том, как она попала вместе с семьею лесника в графский лес и как, следуя советам Николая Норова, опасаясь подвергнуть семью лесника опасности и не желая есть даром чужой хлеб, уехала, доверив Ксаню своей подруге детства.
— Я уехала работать, работать на тебя, — продолжала она, — уехала и вновь поступила на сцену, которую я покинула для того, чтобы всецело посвятить себя тебе… покинула, несмотря на то, что сцена увлекала меня, что я буквально ею жила, что чувствовала призвание к театру… Нелегко мне было это сделать, но я это сделала ради тебя… Однако забыть совсем, что я актриса, я была не в силах, потому что я любила, горячо любила искусство… Ты не можешь помнить, как я, бродя по лесу, читала стихи, проходила роли…
— Помню! Помню, мама!.. Точно сквозь сон я вижу тебя там, в лесу… вспоминаю даже слова!..
— Детка моя! Жемчужина моя!.. Я уехала далеко, поступила в один из провинциальных театров, под фамилией Белая… Мне повезло, талант мой признали, я приобрела известность, славу… Но от тоски по тебе, моя Ксаня, я заболела… Труппа, в которой я служила, уехала, a я осталась одна, в больнице… Много месяцев я пролежала без сознания… Потом у меня развилась чахотка, и меня, все еще больную, бессильную, отправили на юг. Едва поправившись, я опять стала играть по театрам, мечтая об одном: скопить как можно больше денег, чтобы обеспечить мою девочку, поехать за тобою, родная, взять тебя из дома лесничего, поселиться где-нибудь вместе… Мое здоровье, наконец, окрепло настолько, что я могла предпринять дальний путь к тебе… Что пережила я за это время — не выразить словами… Сначала я исправно получала письма от Маши Норовой, которая сообщала мне подробно о твоей жизни. Но неожиданно прервались вести от нее, а мои письма я стала получать обратно: она умерла. Тогда я забросала письмами ее мужа, писала знакомым, обратилась к властям — но безуспешно: Норов не отвечал, а знакомые, наводившие справки, кратко извещали, что он, после смерти сына, бросил службу и уехал в Сибирь — но куда именно, никто не мог мне ответить. Наконец я получила от него письмо, в котором он сухо сообщал мне, что воспитывавшаяся у него дочь моя умерла в одном из отдаленных сибирских городов, и просил прислать немедленно деньги, израсходованные им на лечение и похороны… Я исполнила его желание, но… не поверила его сообщению. Внутренний голос говорил мне, что ты жива, моя Ксаня… мое дитя… моя радость… И я стала искать Норова, стала искать тебя… Однако все мои поиски были тщетны… Он, оказывается, перекочевывал с одного места в другое, и мне не удалось разыскать его следов… Но я все-таки не теряла еще надежды, что увижу тебя, что ты жива… Между тем слава моя все росла… Я ездила, играя, из города в город… Играла и… молилась… Да, я много молилась, Ксаня, чтобы Господь помог мне найти тебя. И вот…
Антонина Марко не кончила своей речи, обвила руками красивую головку дочери и зарыдала.
Рыдала и Ксаня.
Это были душу облегчающие слезы.
Теперь уже не мать Ксани, а она сама, всхлипывая, поверяла все пережитое: лесную жизнь, события в усадьбе, пансионские невзгоды, стремления Манефы, свои успехи и горести на сцене, свой побег и заключила рассказ тем, как она, для спасения подруги, согласилась добровольно идти в монастырь в то время, как вся она рвется к сцене, к подмосткам.