Леон и Луиза - [45]
Я очень хорошо живу, я совсем не скучаю по тебе, понимаешь? Ты лишь один из многих пробелов, которые я ношу всю мою жизнь; в конце концов, я не стала ни автогонщицей или балериной, не умею рисовать и петь так хорошо, как мне хотелось бы, и никогда не смогу читать Чехова по-русски. Я давно уже не нахожу чересчур плохим то, что в жизни осуществляются не все мечты; а то бы очень быстро всё это стало слишком.
Со своими пробелами свыкаешься и живёшь с ними, они становятся частью тебя, и ты уже не хочешь с ними расставаться; если бы мне пришлось кому-нибудь описывать себя, то первым делом я упомянула бы, что не знаю русского языка и не умею крутить пируэты. И постепенно пробелы становятся твоими главными свойствами и заполняют тебя собой. И ты, тоска по тебе – или одна мысль, что ты есть, – всё ещё наполняет меня.
Как это может быть? Не знаю. К этому привыкаешь, это просто есть – и всё.
Тем больше я удивилась, когда я в такси по пути к вокзалу Монпарнас внезапно ощутила сильную потребность написать тебе и разволновалась как девочка-подросток перед первым свиданием. И ещё больше я удивилась, тихонько произнеся на заднем сиденье твоё имя, собираясь уехать от тебя очень далеко. Я ругала себя дурой и при этом всё же доставала бумагу и ручку, и потом во время бесконечной поездки на поезде в переполненном и жарком купе сюда, в порт Лорьян, я пыталась записать всё, что приходило мне в голову в связи с тобой.
Теперь я сижу на краю койки в моей каюте в инкубаторной жаре за тщательно запертой дверью с блокнотом на коленях и всё ещё не знаю, что тебе сказать. Или всё же знаю: всё и ничего, не больше и не меньше. Но одно я знаю точно: это письмо я отправлю в самый последний момент, когда почтальон будет уже уходить с борта, а машина будет стоять под парами, концы будут отданы, а я буду уверена, что мы уйдём в море и будет исключена всякая возможность, что меня вернут назад в Париж.
Вероятно, ты сейчас, если читаешь эти строки, стоишь на коврике перед дверьми своей квартиры и скребёшь свой плоский затылок. Я представляю себе, что консьержка передала тебе письмо, заговорщицки подняв брови, и ты на лестнице, не веря своим глазам, читаешь имя отправителя и правым указательным пальцем надрываешь конверт. Сейчас Ивонна покажется в дверной щёлочке и спросит, не хочешь ли ты войти. Её наверняка тревожит то, что ты стоишь перед дверью с конвертом в руках, может быть, она боится вести о чьей-то смерти или призывной повестки на войну, или что тебе отказано в квартире или в должности. И ты протягиваешь ей письмо, причём без слов, как я предполагаю, потом следуешь за ней в прихожую и закрываешь за собой дверь.
(Привет, Ивонна, это я, Маленькая Луиза из Сен-Люка-на-Марне, не беспокойся, причины для тревоги нет. Я пишу издалека и пишу намеренно на улицу Эколь, чтобы исключить всякую секретность).
Знаешь, Леон, я дивлюсь дипломатическому уму твоей жены, а ещё её мужеству, с каким она принимает твое дисциплинированное хорошее поведение. На её месте я бы давно уже послала тебя к чертям – разумеется, себе же во вред; твою положительность я бы не смогла выносить долго.
Ибо все двенадцать прошедших лет ты действительно вёл себя очень хорошо, этого у тебя не отнять. Ты никогда не подстерегал меня и никогда не пытался преследовать, никогда не звонил в банк Франции и не посылал мне на работу писем; при этом ты страдал так же, как и я, это я знаю точно.
Разумеется, это было бы ребячеством – тайком разыгрывать все эти маленькие ритуалы влюблённых, это не спасло бы нас и было бы для всех нас болезненно, и я бы на тебя сердилась, если бы ты не сдержал слово; с другой стороны, я иногда спрашивала себя, не сердиться ли мне на тебя за то, что ты так аккуратно, строго и безошибочно следуешь моему приказу о радиомолчании. Я, кстати, была не так послушна, как ты. Из маленького парка у Политехнической школы открывается хороший вид в твою квартиру, ты знал? Четырнадцать раз за последние двенадцать лет я разрешала себе поздним вечером стоять там и смотреть в твои освещённые окна – как внутрь кукольного дома; первый раз в тот же вечер после нашей общей поездки, второй раз в воскресенье, на следующий день, и затем с разными интервалами приблизительно раз в год. Это всегда было зимой, поскольку мне требовалось прикрытие темноты, даты я помню наизусть; последние восемь раз у меня был с собой бинокль.
Немного по-дурацки чувствуешь себя, прячась за стволом дерева и разыгрывая детектива, но благодаря биноклю я могла видеть всё: как трое твоих мальчиков играли в солдатики; щербины на месте выпавших зубов твоей Мюрьель, один раз даже красивую грудь твоей жены; потом новый стеллаж для книг, и то, что ты теперь носишь очки, когда мастеришь свои смешные поделки. Ты и твои смешные предметы, Леон! Мне кажется, что я тогда влюбилась в тебя немного и из-за них. Ржавые вилы, ветхий оконный переплёт и полупустая канистра бензина… в этом ты был неподражаем.
Впрочем, я никогда не стояла за деревом дольше четверти часа или двадцати минут, дольше было нельзя; кажется, всякий раз потом среди всех развратников и одиночек по Латинскому кварталу ходили слухи, что одинокая женщина слоняется ночью в парке. Один раз мне пришлось объяснять жандарму, что я делаю ночью в парке с биноклем; я отбрехалась от него орнитологией и наврала что-то насчёт того, что воробьи зимой ночами спят на деревьях, тесно прижавшись друг к другу, чтобы согреться, и что за этим всегда кто-нибудь должен вести наблюдения.

«Мистификатор, шпионка и тот, кто делал бомбу» – увлекательнейший роман современного швейцарского писателя Алекса Капю. Один из героев книги помог американцам сделать атомную бомбу, второй – начинающий художник – отправился со знаменитым Артуром Эвансом на раскопки Кносса и научился ловко воссоздавать старые фрески, что принесло ему немалый доход. А героиня романа, разведчица союзников в фашистской Италии, была расстреляна. Автор удивительным образом связывает судьбы своих героев между собой, украшая повествование множеством достоверных фактов того времени.
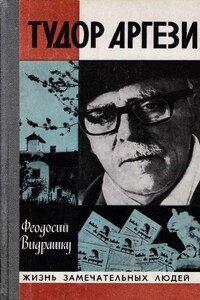
21 мая 1980 года исполняется 100 лет со дня рождения замечательного румынского поэта, прозаика, публициста Тудора Аргези. По решению ЮНЕСКО эта дата будет широко отмечена. Писатель Феодосий Видрашку знакомит читателя с жизнью и творчеством славного сына Румынии.

В этой книге рассказывается о жизни и деятельности виднейшего борца за свободную демократическую Румынию доктора Петру Грозы. Крупный помещик, владелец огромного состояния, широко образованный человек, доктор Петру Гроза в зрелом возрасте порывает с реакционным режимом буржуазной Румынии, отказывается от своего богатства и возглавляет крупнейшую крестьянскую организацию «Фронт земледельцев». В тесном союзе с коммунистами он боролся против фашистского режима в Румынии, возглавил первое в истории страны демократическое правительство.
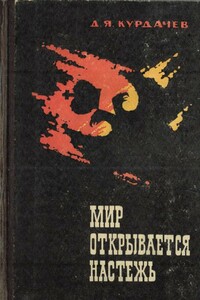
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Лина Кавальери (1874-1944) – божественная итальянка, каноническая красавица и блистательная оперная певица, знаменитая звезда Прекрасной эпохи, ее называли «самой красивой женщиной в мире». Книга состоит из двух частей. Первая часть – это мемуары оперной дивы, где она попыталась рассказать «правду о себе». Во второй части собраны старинные рецепты натуральных средств по уходу за внешностью, которые она использовала в своем парижском салоне красоты, и ее простые, безопасные и эффективные рекомендации по сохранению молодости и привлекательности. На русском языке издается впервые. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
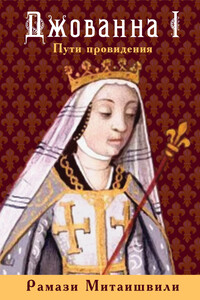
Повествование описывает жизнь Джованны I, которая в течение полувека поддерживала благосостояние и стабильность королевства Неаполя. Сие повествование является продуктом скрупулезного исследования документов, заметок, писем 13-15 веков, гарантирующих подлинность исторических событий и описываемых в них мельчайших подробностей, дабы имя мудрой королевы Неаполя вошло в историю так, как оно того и заслуживает. Книга является историко-приключенческим романом, но кроме описания захватывающих событий, присущих этому жанру, можно найти элементы философии, детектива, мистики, приправленные тонким юмором автора, оживляющим историческую аккуратность и расширяющим круг потенциальных читателей. В формате PDF A4 сохранен издательский макет.
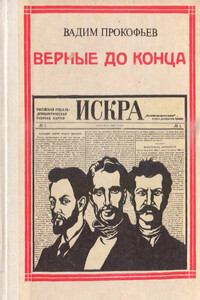
В этой книге рассказано о некоторых первых агентах «Искры», их жизни и деятельности до той поры, пока газетой руководил В. И. Ленин. После выхода № 52 «Искра» перестала быть ленинской, ею завладели меньшевики. Твердые искровцы-ленинцы сложили с себя полномочия агентов. Им стало не по пути с оппортунистической газетой. Они остались верными до конца идеям ленинской «Искры».