Лекции по античной философии - [72]
Тут, в связи с музыкой, можно задать себе вопрос, после ответа на который можно будет сделать еще один следующий шаг, который и завершит наше рассуждение. Когда мы слушаем симфонию, сонату, то звук чего мы слышим? Звук инструментов, — так ведь. А, может быть, мы слышим звуки соотношений? Ведь соотношения звучат, хотя, конечно, звучат и инструменты. Все играется на инструментах. Но слышим-то мы, если мы слышим музыку, когда мы в феноменальной материи музыки, то есть в феноменальной материи звука. Мы слышим звук соотношений в том особом смысле, в котором и употребляем слово «слышать» и пр. И не слышим при этом звуки инструментов, хотя, несомненно, физиологически их слышим. Например дирижер, наверное, не слышит в том смысле, в каком мы слышим. Он слышит, когда узнает по звуку инструменты (если он на среднем уровне техники), и не способен, сквозь технику, слышать еще что-то. Слышит: вот там скрипка сфальшивила, а здесь не в том темпе пошла. А когда мы слушаем музыку, а не дирижированием занимаемся, то в совершенно определенном* доказуемом и четком смысле слова слышим звуки соотношений. Или звук самой музыки, а не звук инструментов. Теперь поставьте рядом с этими соотношениями, скажем, соотношения, существующие между вращающимися планетами. Разумеется, греки вовсе не считали, что звучание небесных сфер — это звуки, издаваемые планетами, которые, вращаясь, скрипят и скрежещут на своих осях и т. д. Не это имелось в виду. Более того, пифагорейцы даже говорили о звучании чисел.
Теперь сделаем еще один шаг, о котором я вас предупреждал. А именно, когда мы имеем дело с картиной складывания мышления, то имеем дело и со складыванием чувств. Не тех чувств, которые нам даны природой через органы чувств, а тех, которые существуют, возникают для того, чтобы вообще было возможно мышление. Условно назовем их теоретическими иди теоретизированными чувствами. Чувства-теоретики. Вот таким чувством-теоретиком, являющимся продуктом науки и мышления, а не предпосылкой для науки и мышления, и является то чувство, которым мы «слышим» звучание небесных сфер. Как, например, мы видим не предметы, освещаемые светом, а видим свет и на основе его можем понимать устанавливаемое соотношение. Не устанавливать, а понимать устанавливаемые соотношения между предметами, которые описываются в численных парадоксах.
Иными словами, я хочу сказать — и на этом закончить сегодня разговор — о том, о чем говорит вот такая де-антропоцентрированная попытка мыслить: эта попытка разрешается не на способностях нашего психофизического аппарата, которые обычно замыкают наше мышление на наглядности, а на теоретизированных органах чувства или на стихиях. Следовательно, в первой форме теоретического мышления стихии или элементы выступают, скажем, в виде того, что можно назвать телом понимания или понимательной материей. Материей, которую я перед этим назвал феноменальной, а теперь называю понимательной материей. Люди, как правило, понимают в обычных возможностях своего психического аппарата, и это как раз приводит к неприродности видения, к его антропоморфности. Парадоксально, но это так. А вот на тех чувствах, которые возникают уже в лоне «самого по себе», то есть в том же пространстве, где вырабатывается мышление, там мы имеем дело уже с телами понимания, на которых разрешаются наши мысленные ходы, например, о числах; числа — это уже абстрактные объекты, на которых разрешаются эти тела понимания, они и являются фундаментом или основой де-антропоцентрации мира.
А теперь соотнесите все с тем, о чем потом философы станут говорить на языке, в котором фигурирует слово «бытие». Вот тут и начинается очень странный разговор об этом бытии. Но странный он только тогда, когда все то, что я говорил перед этим, говоря о бодрствовании, мышлении, вертикали и т. д., — весь этот фон или опущен или считается само собой разумеющимся. Но нам, конечно, не нужно каждый раз, называя или приводя в действие философские понятия, заново устанавливать все его живые ниточки, устанавливать весь этот фон. Они предполагаются уже известными, само собой разумеющимися. Почему? Да потому что, в противном случае, уже имея изобретенный язык, мы начнем снова проходить всю дорогу изобретения слов этого языка. Язык сам сокращает, экономит наши усилия. Избегая многих объяснений, мы можем разговаривать на этом языке с теми, кто владеет этим языком.
Философия — это язык, и на этом языке она говорится; сейчас вы сразу поймете, что говорится. Вот я восстановил подтекст, а теперь на философском языке, который не тащит за собой подтекст, а является языком понятий, я говорю, что бытие есть то, что охватывает все, для чего нет ничего другого. Оно неподвижно, вечно, неизменно и представляет собой нечто, как выражался Парменид, вроде сферы или шара 55. Оно кругло. А теперь выбросим из головы, что бытие — это физическое бытие. Парменид говорил, что за вещами, которые мы видим, есть некое действительное бытие; оно круглое, неподвижное — вечная сфера 56. Но мы, конечно, невольно вкладываем в эти слова буквальный смысл. Понимаем их как слова, говорящие не то чтобы уж совсем только о физических вещах, но и о чем-то особом тоже, и все-таки — в основном как о физических вещах. Но тогда что такое, например, неподвижное? Что — это физическое бытие — вечное и неподвижное? Ясно, что не об этом идет речь. Бытие есть бытие существующего. Не сами вещи, а бытие вещей. Я говорил о бодрствовании, пребывании целиком, раз и навсегда, которое, например, может быть славой обозначенным. Что это? Я могу сказать, это — сфера, замкнутая полностью на себя, в ней ничего другого, кроме себя, нет. Ну, а что еще есть в том, что описывалось мною на языке различий, помимо тех условий, в силу которых вообще что-то есть. Об этих условиях мы должны, конечно, говорить на другом языке, чем тот язык, на котором говорим о том, что порождено этими условиями. Порождены вещи, законы, они описываются на нормальном языке. А вот, когда я хочу говорить о том, что их порождает, то это уже должен быть язык бытия. Или язык, на котором я начинаю говорить о бытии. Следовательно, слово «бытие» сокращает, заключает в себе все те словесно-мыслительные ходы, которые мне пришлось проделывать, и на этом экономном языке пытаться понять. Вернее, так — посредством слова «бытие» мы пытаемся понять то, что есть нечто, что — одно, нечто, что предполагает мастерство и тем самым включает в себя мышление. Нечто, что не есть никакая отдельная вещь, а все вещи — они есть. Но раз так — значит помимо них нет ничего другого, никаких других? Уже по самому ходу мышления я должен был бы так сказать. Ведь если я сказал, что есть что-то, что не есть никакая отдельная вещь, а все они вместе, и потом назвал это бытием, то, следовательно, должен сразу сказать: бытие есть нечто такое, вне чего нет ничего другого. Так ведь?

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Сквозная тема работ М. К. Мамардашвили - феномен сознания, раскрытие духовных возможностей человека. М. К. Мамардашвили постоянно задавался вопросом - как человеку исполниться, пребыть, войти в историческое бытие. Составление и общая редакция Ю.П. Сенокосова.
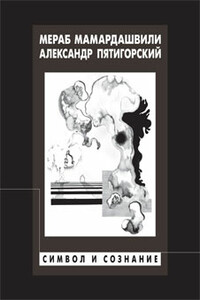
Эта книга представляет собой разговор двух философов. А когда два философа разговаривают, они не спорят и один не выигрывает, а другой не проигрывает. (Они могут оба выиграть или оба остаться в дураках. Но в данном случае это неясно, потому что никто не знает критериев.) Это два мышления, встретившиеся на пересечении двух путей — Декарта и Асанги — и бесконечно отражающиеся друг в друге (может быть, отсюда и посвящение «авторы — друг другу»).Впервые увидевшая свет в 1982 году в Иерусалиме книга М. К. Мамардашвили и A. M. Пятигорского «Символ и сознание» посвящена рассмотрению жизни сознания через символы.

Лекции о современной европейской философии были прочитаны Мерабом Константиновичем Мамардашвили студентам ВГИКа в 1978–1979 гг. В доходчивой, увлекательной манере автор разбирает основные течения философской мысли двадцатого столетия, уделяя внимание работам Фрейда, Гуссерля, Хайдеггера, Сартра, Витгенштейна и других великих преобразователей принципов мышления. Настоящее издание является наиболее выверенным на сегодняшний день и рассчитано на самый широкий круг читателей, интересующихся актуальными вопросами культуры.

М.К. Мамардашвили — фигура, имеющая сегодня много поклонников; оставил заметный след в памяти коллег, которым довелось с ним общаться. Фигура тоже масштаба, что и А. А. Зиновьев, Б. А. Грушин и Г. П. Щедровицкий, с которыми его объединяли совместные философские проекты. "Лекции о Прусте" — любопытный образец философствующего литературоведения или, наоборот, философии, ищущей себя в жанре и языке литературы.

Издаваемый впервые, настоящий курс лекций, или бесед, как называл их сам автор, был прочитан в 1986/1987 учебном году в Тбилисском университете.После лекционных курсов о Декарте, Канте, Прусте, а также по античной и современной философии, это был фактически последний, итоговый курс М. К. Мамардашвили, посвященный теме мышления, обсуждая которую, он стремился показать своим слушателям, опираясь прежде всего на свой жизненный опыт, как человек мыслит и способен ли он в принципе подумать то, чем он мыслит.

В книге дан философский анализ таких феноменов, как «зло» и «преступность». Преступность рассматривается также в криминологическом и уголовно-правовом аспектах. Показана опасность, которую несут криминализация общественного сознания, рост интенсивности преступных посягательств в России и мире, ставящие под угрозу существование человечества. Особое внимание уделено проблемам власти и преступности, уголовной политике и вопросу ответственности лидеров власти за состояние дел в сфере борьбы с преступностью.
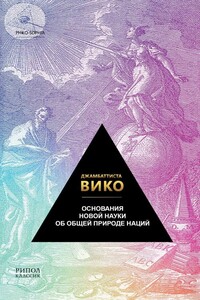
Вниманию читателя предлагается один из самых знаменитых и вместе с тем экзотических текстов европейского барокко – «Основания новой науки об общей природе наций» неаполитанского философа Джамбаттисты Вико (1668–1774). Создание «Новой науки» была поистине титанической попыткой Вико ответить на волновавший его современников вопрос о том, какие силы и законы – природные или сверхъестественные – приняли участие в возникновении на Земле человека и общества и продолжают определять судьбу человечества на протяжении разных исторических эпох.

Экспансия новой религиозности (в формах оккультизма, магии, мистицизма, паранаучных верований, нетрадиционных методов лечения и т.п.) - одна из примет нашего времени. Феномен новой религиозности радикально отличается от исторически сложившихся, традиционных для данного общества религий, и при этом не сводится исключительно к новым религиозным движениям. В монографии рассмотрен генезис новой религиозности, проанализированы ее основные особенности и взаимосвязь с современной массовой культурой и искусством. Для специалистов в области культурологии, религиоведения, философии, студентов гуманитарных вузов и широкого круга читателей.
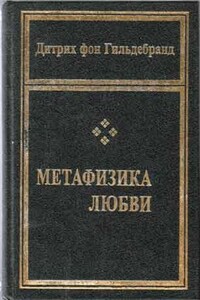
«Метафизика любви» – самое личное и наиболее оригинальное произведение Дитриха фон Гильдебранда (1889-1977). Феноменологическое истолкование philosophiaperennis (вечной философии), сделанное им в трактате «Что такое философия?», применяется здесь для анализа любви, эроса и отношений между полами. Рассматривая различные формы естественной любви (любовь детей к родителям, любовь к друзьям, ближним, детям, супружеская любовь и т.д.), Гильдебранд вслед за Платоном, Августином и Фомой Аквинским выстраивает ordo amoris (иерархию любви) от «агапэ» до «caritas».
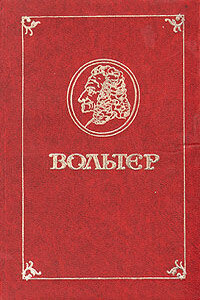
"Homelies, prononces a Londres en 1765, dans une assemblee privee". Эта работа, опубликованная в 1767 г., состоит из четырех частей ("проповедей"): об атеизме, о суеверии, о понимании Ветхого завета, о понимании Нового завета. Критика атеизма и обоснование деизма сочетаются у Вольтера с решительной критикой реально существовавших религий и церквей, в первую очередь иудаизма и христианства. В настоящем издании публикуются первые две части "Назидательных проповедей".

Глобальный кризис вновь пробудил во всем мире интерес к «Капиталу» Маркса и марксизму. В этой связи, в книге известного философа, политолога и публициста Б. Ф. Славина рассматриваются наиболее дискуссионные и малоизученные вопросы марксизма, связанные с трактовкой Марксом его социального идеала, пониманием им мировой истории, роли в ней «русской общины», революции и рабочего движения. За свои идеи классики марксизма часто подвергались жесткой критике со стороны буржуазных идеологов, которые и сегодня противопоставляют не только взгляды молодого и зрелого Маркса, но и целые труды Маркса и Энгельса, Маркса и Ленина, прошлых и современных их последователей.