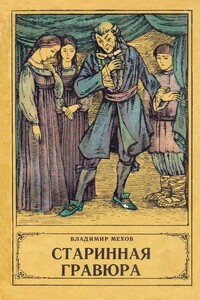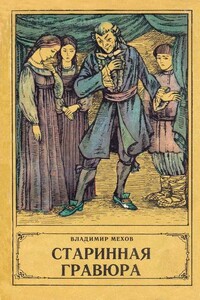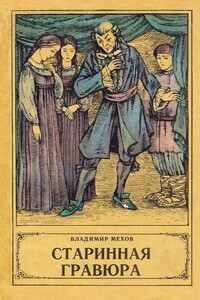— Евреяне в слободе вашей жительство имеют?
Куземка плечами пожал, удивился:
— Какие же у нас евреяне? Откуда?
Да со скамьи — почему-то ядовито — Мешалкин:
— А Ивлев? А Иванов Степан с Елисеевым? А купчина Матвейка Григорьев?
На оболтуса Ваську Куземка глядит: что за чушь он городит, не понимает.
— Какие же это евреяне? То ж крещеные. В церковь вместе со всеми ходят…
— А все равно евреяне, — будто подкусить чем-то хочет Мешалкин. — Все это знают.
Что правда, то правда, разговоры такие и Куземка от отца своего с Тюкой хромым слыхал: когда их соседа, почтенного торгового человека Матвея Григорьева, отроком-пленником из Мстиславля в Москву перевезли, будто был он иной, не православной и вообще не христианской веры.
— Замечали, как люди эти при народе держатся? Как почитают старших в своей семье? — тем временем все клонит куда-то Грегори.
Замечали, разумеется, слава богу, не слепые. Григорьевы как вместе все к обедне ступают, то и слов никаких не надо, видно без слов — всегда помнят люди, что из чужаков презираемых в знатные выбились. И хоть этим по-глупому не бахвалятся, перед слобожанами беднейшими нос не задирают, но гордятся, принимают как знак божьего благоволения, что встречные в поклоне сгибаются, дорогу уступают. Особенно Григорьева старший, Самошка, ровесник Куземки, — за рукав отцовской шубы держится, шаг в шаг за ним старается ступить, а на лице — вот, мол, каков у меня тятя. Наверное, когда Товит был молод и богат, а Товий — в годах Самошки, так ассирийцы, среди которых они жили…
Словно молния сверкнула в глазах Куземки. Понял подсказку учителя!
— Давай попробуем, — договорился с Родькой, — будто Товит — это Матвей Григорьев состарившийся. А Товий, значит, — будто малец его, Самошка.
Разгладились морщины у Грегори, когда смотрел и слушал их назавтра…
В хлопотах и занятиях чудных — забава не забава, а и на серьезное не похоже — не заметили, лето промелькнуло. Зарей, как на улицу из школы выскакивают — от сена после ночи отряхнуться и глаза заскорузлые сполоснуть, — пятки подпекает заиндевелая трава.
С паутинками бабьего лета в волосах приехали первый раз в Преображенское. Венценосного хозяина в усадьбе не было. Заспанная стрелецкая стража в помятых кафтанах резалась на солнышке в карты. Мордатые девки, словно на обычной слободской улице, с коромыслами на плечах плыли по воду и, сплевывая, лущили семечки. Видеть все это и интересно было, и почему-то страшно.
Но подошли к комедийной хоромине, остановились, ожидая Грегори, на крыльце в свежей стружке, — пастору что-то толковал сзади чужеземец в запачканных краской штанах, — и просветлели у Куземки с Климкой лица: тоненькое, с дрожью, сквозь открытые двери строения слышалось веселое пение:
Жук топориком махал,
Строить мушке помогал.
В огромной палате с обитыми зеленым сукном стенами на стремянке стоял Михайло Тюка. Прикреплял к пошл ку рейку и кричал кому-то внизу:
— Пенек ты копысский, сопатка огрызком! Хочешь, чтоб загремела рама царевым потешникам на головы?..
Сыну и Куземке Михайло обрадовался:
— А мои вы кумидянты! А когда же вас, леший их побери, от дурости этой вызволят!..
Повеселее, посытнее жизнь пошла у дружков. Михайло им нет-нет да подсунет гостинец — то от мамки из дому привезенный, то тут, в Преображенском, у баб на кухне перехваченный. А встречаются они чуть не каждый день. Днем, когда пареньки в хоромине точно в пекле жарятся, — там их Грегори на возвышении, брусом с перильцами от остальных палат отгороженном, до хрипа гоняет, комедийные слова да разные песни и танцы повторять заставляя, — плотники под присмотром горластого чужеземца в запачканных краской штанах во дворе возле рам с полотнами потеют. А как вечером комедиантов к Кукуй-слободу отдыхать отвозят, Михайло с товарищами в хоромине стучать начинают, эти рамы першпективного письма, а попроще — полотна для комедии, горластым живописцем нарисованные, на возвышении комедиантском за брусом с перильцами прилаживают. При свечах не очень им удобно, но ведь царь на комедийное действо и на полотна, значит, при свечах будет глядеть!..
Еще несколько недель проходит, и новая радость у Куземки: отец его Якуб в Преображенском у комедиантов объявляется. Это когда уже одевать их спешно начинают в комедийное. Боковушку под портняжью отводят, кажется, не такую уж и тесную. Но как завалили ее штуками киндяка, тафты, крашенины, бархата, мотками тесьмы, галунов, кружев, всякими мехами, мишурой, нарядами из прежней комедии, которые и в новой могут сгодиться, — так сталось в комнате, что трем портным и разойтись трудновато. От темна до темна сидят мужики не разгибаясь, — на кого подбирают, на кого подгоняют, на кого шьют новое.
Парчовую мантию Товия накинул на Куземку Якуб, волосы ему пригладил, пуховой шляпой немецкой прикрыл, — отошел, чтобы со стороны на свое шитье поглядеть. Смотрел, смотрел, слезу вдруг смахнул и отвернулся.
Что он надумал? Ну батя, ну чудак!..