Курс на худшее - [98]
(Сартр, 135; курсив мой[442])
Закономерно, что вязкость мира-в-себе неразрывно связана для Сартра с сексуальностью:
Неужели я буду?.. ласкать на расцветшей белизне простыней белую расцветшую плоть, которая тихо клонится навзничь, — с ужасом думает Рокантен, — буду касаться цветущей влаги подмышек, жидкостей, соков, цветения плоти, проникать в чужое существование, в красную слизистую оболочку, в душный, нежный, нежный запах существования и буду чувствовать, что я существую между мягких, увлажненных губ, губ красных от бледной крови, трепещущих губ, разверстых губ, пропитанных влагой существования, увлажненных светлым гноем, буду чувствовать, что я существую между сладких, влажных губ, слезящихся, как глаза?
(Сартр, 107)[443].
Характерно, что при чтении такого типичного для заумной поэзии стихотворения, как «Sôol’af» («Весна») Александра Туфанова, стихотворения, целиком составленного из нечленораздельных звуков, возникает именно ощущение упругой, расплывчатой неорганической массы. Туфанов в своих поисках стремился приписать каждому звуку специфическую функцию: «вызывать определенные ощущения движения». Однако при такого рода движении происходит, как говорит Липавский,
смазывание его очертаний — от незаметного до такого, когда предмет превращается в мутную серую полосу. Это смазывание очертаний предмета происходит от того, что мы не успеваем фиксировать его точно, крепко держать его глазами.
(Чинари—1, 91)
Отсюда, как реакция на потерю предметами стабильности, и возникает знакомое официанту из «Нади» состояние головокружения:
Головокружение и состоит в ослаблении, колебании фиксации, смазывании очертаний, которое и создает ощущение движения, хотя самого характерного и необходимого для ощущения движения налицо нет, — «неподвижное движение». Почти то же ощущение можно получить, глядя на отражение в текучей воде: тут тоже смазывание очертаний без перемещения их.
(Чинари—1, 91; курсив мой[444]).
В результате мы наблюдаем растекание мира, получившее свое выражение в заумной поэзии:
Мир был зажат в кулак, но пальцы обессилели, и мир, прежде сжатый в твердый комок, пополз, потек, стал растекаться и терять определенность.
(Чинари—1, 92)
Неприязнь к открытым сплошным пространствам, объясняет Липавский, напрямую связана с «боязнью безындивидуальности»: человека пугают однообразные водные или снежные пустыни, большие оголенные горы, степи без цветов, синее или белое небо, слишком насыщенный солнцем пейзаж (Чинари—1, 79). Беккет как будто иллюстрирует данное положение, помещая своих героев то на голую равнину («В ожидании Годо»), то на берег бескрайнего моря («Зола»), то на скалу где-то между небом и морем («Скала»). Здесь не определить направление движения, а понятия «лева» и «права», севера и юга становятся лишь повествовательными фикциями:
Небо, о нем… небо и земля, о них я много слышал, — говорит герой «Никчемных текстов», — это действительно так, я ничего не придумываю. Я записал, вынужден был записать множество историй, в которых они играли роль декораций, создавали атмосферу. Они смыкаются вокруг героя, образуя большой разрыв в том самом месте, где он находится, так что он как будто накрыт колпаком, имея возможность перемещаться до бесконечности во всех направлениях, умный поймет, это не входит в мою компетенцию[445].
«Время стало пространством»[446], — говорится в другом «никчемном» тексте, но если пространство бесконечно и не поддается оценке, то таким же неопределимым становится и время. Время движется, но не вперед, а на месте, «что-то идет своим чередом» (Театр, 140), но никогда не достигает финальной точки: это феномен «неподвижного движения», о котором упоминал Липавский. Наступает «время Никогда»[447], время остановленного мгновения.
Я в углублении, которое вырыли века непогоды, я лежу лицом вниз на коричневатой земле со стоячей, медленно впитывающейся, шафранного цвета водой[448], — констатирует беккетовский персонаж.
«Это сплошная вода, которая смыкается над головой как камень», — добавил бы Леонид Липавский (Чинари—1, 79). Стоячая вода растворяет время, выбраться из нее почти невозможно: «<…> пока что я здесь, извечно, навсегда»[449], — вынужден признать рассказчик «Никчемных текстов». Он балансирует на границе жизни и смерти и, чтобы преодолеть ее, пытается «заговорить в будущем времени» и вновь запустить тем самым часовой механизм. Однако он терпит неудачу, и ему ничего не остается, как вернуться к прошедшему времени. Там, где больше нет будущего, но только прошедшее, ставшее настоящим, попытка самоубийства оборачивается лишь бесконечным погружением в трясину остановившегося времени[450]. Чей-то голос повторяет в бреду:
Кто, это не кто-то, нет никого, есть только голос безо рта и где-то есть ухо, что-то должно слышать, и где-то есть рука, он называет это рукой, он хочет сделать руку, ну, хотя бы что-то, где-то, что оставляло бы следы, того, что происходит, того, что говорится, это самый минимум, нет, это похоже на роман, опять на роман, есть только голос, шелестящий и оставляющий следы[451].
2. Уснувшее царство
Во втором «никчемном тексте» можно найти понятие, отсылающее к чинарскому «остановленному мгновению»: это «огромная секунда» застывшего «сейчас», которая заставляет беккетовского героя вспомнить о рае, ведь в раю времени нет. К вечности райского бытия стремился Хармс, но Беккета эта вечность ужасает: для него истинный рай — абсолютная пустота и тишина бесконечного несуществования. Как я уже неоднократно отмечал, во второй половине тридцатых годов взгляды Хармса претерпевают радикальную трансформацию и становятся все более похожими на взгляды Беккета: теперь русский поэт боится вечности, и источник этого страха как раз в способности существования стабилизироваться, застывать, превращаться в неорганическую массу. «Огромная секунда» не имеет границ, и ее безграничность разрушительным образом воздействует на сознание человека: мыслительный процесс замедляется, то же самое происходит и со словами, «существительное умирает, прежде чем достигнет глагола»
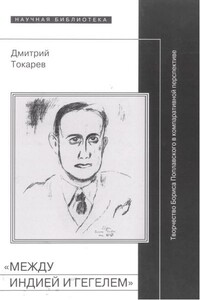
Борис Поплавский (1903–1935) — один из самых талантливых и загадочных поэтов русской эмиграции первой волны. Все в нем привлекало внимание современников: внешний облик, поведение, стихи… Худосочный юноша в начале своей парижской жизни и спустя несколько лет — настоящий атлет; плохо одетый бедняк — и монпарнасский денди; тонкий художественный критик — и любитель парадоксов типа «отсутствие искусства прекраснее его самого»; «русский сюрреалист» — и почитатель Лермонтова и блока… В книге Дмитрия Токарева ставится задача комплексного анализа поэтики Поплавского, причем основным методом становится метод компаративный.

Талантливый драматург, романист, эссеист и поэт Оскар Уайльд был блестящим собеседником, о чем свидетельствовали многие его современники, и обладал неподражаемым чувством юмора, которое не изменило ему даже в самый тяжелый период жизни, когда он оказался в тюрьме. Мерлин Холланд, внук и биограф Уайльда, воссоздает стиль общения своего гениального деда так убедительно, как если бы побеседовал с ним на самом деле. С предисловием актера, режиссера и писателя Саймона Кэллоу, командора ордена Британской империи.* * * «Жизнь Оскара Уайльда имеет все признаки фейерверка: сначала возбужденное ожидание, затем эффектное шоу, потом оглушительный взрыв, падение — и тишина.

Проза И. А. Бунина представлена в монографии как художественно-философское единство. Исследуются онтология и аксиология бунинского мира. Произведения художника рассматриваются в диалогах с русской классикой, в многообразии жанровых и повествовательных стратегий. Книга предназначена для научного гуманитарного сообщества и для всех, интересующихся творчеством И. А. Бунина и русской литературой.

В новую книгу волгоградского литератора вошли заметки о членах местного Союза писателей и повесть «Детский портрет на фоне счастливых и грустных времён», в которой рассказывается о том, как литература формирует чувственный мир ребенка. Книга адресована широкому кругу читателей.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Франция привыкла считать себя интеллектуальным центром мира, местом, где культивируются универсальные ценности разума. Сегодня это представление переживает кризис, и в разных странах появляется все больше публикаций, где исследуются границы, истоки и перспективы французской интеллектуальной культуры, ее место в многообразной мировой культуре мысли и словесного творчества. Настоящая книга составлена из работ такого рода, освещающих статус французского языка в культуре, международную судьбу так называемой «новой французской теории», связь интеллектуальной жизни с политикой, фигуру «интеллектуала» как проводника ценностей разума в повседневном общественном быту.

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.