Курс на худшее - [86]
(Псс—2, 303)
Налицо характерное для чинарей смещение смысла: вначале образ дома не имеет никаких сексуальных коннотаций; тот, кто не смог отразить «нашествие смыслов», делает «свое мирное дело», строит свой дом — идеал мещанского счастья. Глубинный смысл образа становится явным, когда возникает мотив слабости и связанный с ним мотив девственности. Сдергивая с девы кружево, Хармс не просто демонстрирует, что не боится женской наготы; он подчиняет своей воле весь мир, срывая с него ту категориальную «сетку», которую, по выражению Друскина, человек на мир налагает[395].
Дом как некое замкнутое пространство — это еще одна вариация знаменитого обэриутского шкапа (другие вариации: сундук в одноименном «случае», чемодан в «Старухе» и т. п.). Попасть в шкап — значит умереть, «сыграть в ящик», вернуться в дородовое состояние, в покой материнского чрева[396]. Михаил Золотоносов, разобравший стихотворение «однажды господин Кондратьев…» (1933), показал, что «американский шкап для платьев», в который попадает господин Кондратьев, оказывается символом женских половых органов, точнее, половых органов первой жены Хармса Эстер Русаковой. Половой акт, таким образом, уподобляется умерщвлению, пусть и символическому. Умерщвление плоти является необходимым этапом на пути к обретению нового тела, обладающего духовно-материальной природой. Новое тело будет неподвластно грубому влечению плоти, ибо сексуальность в нем будет присутствовать лишь в сублимированном виде, как диалектическое единство мужского и женского начал. В алхимической традиции взаимное влечение противоположностей, ведущее к их алогическому единству, изображалось именно как символический половой акт между Царем (анимусом в юнгианской терминологии) и Царицей (анимой).
Я уже вспоминал тот эпизод из «Старухи», когда рассказчик открывает ключом свою комнату, в которой он оставил мертвую старуху. Проникая в комнату, он, сам того не подозревая, переходит невидимую границу между жизнью и смертью и оказывается там, где не действуют законы логики. Характерно, что это проникновение не лишено сексуальных коннотаций: вставляя ключ в замочную скважину, рассказчик совершает символический половой акт со старухой, причащаясь миру, где, как сказал бы Леонид Липавский, «нет разделения, нет изменения, нет ряда» (Чинари—1, 79). При этом он перестает быть мужчиной в собственном смысле слова: все его усилия догнать симпатичную дамочку, встреченную им ранее в булочной, терпят неудачу, и это вполне понятно, ведь он тащит чемодан-гроб со старухой.
В 1931 году Хармс пишет маленький текст, обращенный, по-видимому, к Эстер:
Прежде, чем придти к тебе, я постучу в твое окно. Ты увидишь меня в окне. Потом я войду в дверь, и ты увидишь меня в дверях. Потом я войду в твой дом, и ты узнаешь меня. И я войду в тебя, и никто, кроме тебя, не увидит и не узнает меня.
(Псс—2, 35)
Совокупление мыслится Хармсом как мистический акт вхождения в дом, вхождения тайного, скрытого от профанного взгляда. Нечто подобное имеет место и в «Сабле»: по сути дела, конечной целью «поражения» девы-дома саблей является достижение андрогинного единства.
То, что Хармс рассматривает совокупление не как банальный физиологический акт, а как мистическое действо, говорит о его знакомстве с различными оккультными доктринами, заимствовавшими свою символику в древних верованиях. В бумагах Хармса сохранился лист, на котором изображено несколько таких архаических символов: крест жизни, так называемый crux ansata, состоящий из тау-креста и венчающего его овала; цветок; сефиротическое дерево, перевернутое корнями вверх. В самом низу листа нарисовано окно — излюбленный хармсовский символ, а в самом верху — расположены три знака, воспроизводящие, в зашифрованном виде, имя египетского бога Осириса. Анализ всего комплекса значений, связанных с данными символами, не входит здесь в мою задачу: об этом уже писали и М. Ямпольский, и А. Герасимова с А. Никитаевым[397]. Я хотел бы обратить внимание лишь на крест жизни, в изображении которого комбинируются женское (овал) и мужское (тау-крест, имеющий форму пениса) начала. Тем самым эксплицируется глубинное единство двух стихий, служащее основанием круговорота жизни и смерти.
В середине тридцатых годов Хармса особенно интересует проблема разделения единой до этого пустоты на «то» и «это», на «там» и «тут». Этой проблематике посвящен трактат под условным названием «О существовании, о времени, о пространстве» и примыкающий к нему текст, в котором речь идет об ипостаси и о кресте. По Хармсу, «троица существования», которую образуют время, пространство и препятствие (препятствие — это земной мир), позволяет проникнуть в тайну единосущия: Бог един, но в трех лицах. «Крест есть символ ипостаси, т. е. первого закона об основе существования», — утверждает поэт (
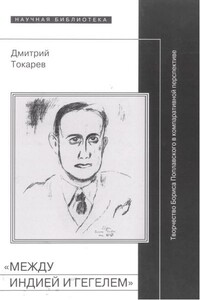
Борис Поплавский (1903–1935) — один из самых талантливых и загадочных поэтов русской эмиграции первой волны. Все в нем привлекало внимание современников: внешний облик, поведение, стихи… Худосочный юноша в начале своей парижской жизни и спустя несколько лет — настоящий атлет; плохо одетый бедняк — и монпарнасский денди; тонкий художественный критик — и любитель парадоксов типа «отсутствие искусства прекраснее его самого»; «русский сюрреалист» — и почитатель Лермонтова и блока… В книге Дмитрия Токарева ставится задача комплексного анализа поэтики Поплавского, причем основным методом становится метод компаративный.

Естественно, что и песни все спеты, сказки рассказаны. В этом мире ни в чем нет нужды. Любое желание исполняется словно по мановению волшебной палочки. Лепота, да и только!.. …И вот вы сидите за своим письменным столом, потягиваете чаек, сочиняете вдохновенную поэму, а потом — раз! — и накатывает страх. А вдруг это никому не нужно? Вдруг я покажу свое творчество людям, а меня осудят? Вдруг не поймут, не примут, отвергнут? Или вдруг завтра на землю упадет комета… И все «вдруг» в один миг потеряют смысл. Но… постойте! Сегодня же Земля еще вертится!
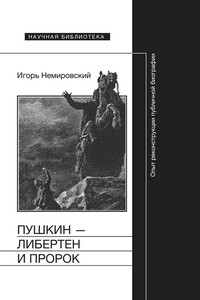
Автор рассматривает произведения А. С. Пушкина как проявления двух противоположных тенденций: либертинажной, направленной на десакрализацию и профанирование существовавших в его время социальных и конфессиональных норм, и профетической, ориентированной на сакрализацию роли поэта как собеседника царя. Одной из главных тем являются отношения Пушкина с обоими царями: императором Александром, которому Пушкин-либертен «подсвистывал до самого гроба», и императором Николаем, адресатом «свободной хвалы» Пушкина-пророка.

В статье анализируется одна из ключевых характеристик поэтики научной фантастики американской Новой волны — «приключения духа» в иллюзорном, неподлинном мире.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

Книга известного литературоведа посвящена исследованию самоубийства не только как жизненного и исторического явления, но и как факта культуры. В работе анализируются медицинские и исторические источники, газетные хроники и журнальные дискуссии, предсмертные записки самоубийц и художественная литература (романы Достоевского и его «Дневник писателя»). Хронологические рамки — Россия 19-го и начала 20-го века.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.