Культурные ценности - [5]
Женщина народности Зуни
На примере идолов народности Зуни мы видим, что культурные ценности, лишенные своей культурной значимости, будут лишь видом имущества и объектом права собственности. При этом они потеряют такую свою важную характеристику, как уникальность, отличающую их от других видов имущества и, следовательно, влияющую на особые механизмы защиты культурных ценностей. Одновременно снизится и их стоимостная оценка.
Деревянные идолы Зуни
Рассмотренные концепции выявляют двойственную природу данного объекта правового регулирования. В каждой из этих концепций есть рациональное звено, но на их основе невозможно найти общие подходы к определению культурных ценностей.
Возможно, из-за отсутствия единой доктрины в международном праве на данный момент не существует общепринятой дефиниции понятия «культурные ценности». Каждый нормативно-правовой акт международного, регионального или национального уровня приводит лишь ряд признаков, позволяющих определить предмет, как культурную ценность. Однако, основываясь на современных доктринальных исследованиях и нормативных актах, необходимо выработать единое научно обоснованное понятие, которое может использоваться в международно-правовых актах и в национальном законодательстве, равно как и в целях использования последнего в учебной литературе.
В связи с вышеизложенным культурные ценности следует понимать как незаменимые материальные и нематериальные предметы и произведения культуры, созданные человеком в результате творческого процесса, имеющие художественную и имущественную ценность, универсальную значимость и оказывающие эстетическое, научное, историческое воздействие на человека[11].
Подобное понятие позволяет определить «культурные ценности», с одной стороны, как предметы материального мира, при этом оборот таких предметов регулируется нормами частного права (национального и международного), а с другой – как духовные ценности, поскольку они порождают социальную связь физических и юридических лиц, использующих эти культурные ценности. Социальные связи возникают в области сознания и регулируются нормами национального и международного права публичного характера [Алексеев, 1999, с. 273]. В большинстве своем, подобные связи получили нормативное закрепление в сфере прав человека (право на свободу слова, вероисповедания, частную жизнь и т. д.). Однако право человека на культурную ценность до сих пор не имеет в позитивном праве точного определения и в международно-правовой доктрине, равно как и в национальных теориях, является весьма дискуссионной темой.
Поскольку культурная ценность представляет собой одновременно и материальный и духовный объект, правовое регулирование экономического оборота таких предметов носит комплексный характер, состоящий из норм частного и публичного права (международного и национального). Этот правовой комплекс сложился относительно недавно под влиянием процессов экономической глобализации, а потому в доктринальной литературе исследован без учета подобной взаимосвязи.
2. Право на культурные ценности как элемент системы прав человека и культурные ценности как объект права собственности
Впервые право человека на культурные ценности было зафиксировано в самой общей форме в международно-правовом акте рекомендательного характера. Согласно ст. 27 Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 г. «каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной жизни общества, наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе и пользоваться его благами». Постепенно данное право получило и договорное закрепление: государства, участвующие в Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах от 19 декабря 1966 г. (далее – Пакт), подтвердили признание права каждого человека на участие в культурной жизни (ст. 15 Пакта) [Международный пакт…, 1996, с. 464–470]. Комплексный анализ преамбулы и ст. 15 Пакта позволяет сделать вывод о том, что право человека на участие в культурной жизни напрямую связано с правом человека на достойную жизнь.
Подобная взаимозависимость была обозначена в праве лишь в XX в. по мере развития комплекса прав человека. Глубинным мотивом для развития прав человека в экономической, социальной, а также культурной областях остается поиск путей к повышению уровня жизни людей и расширению их свободы. Расширение свободы предполагает осознание ее границ с целью признания прав иных людей, в том числе и на повышение культурного уровня.
Но каким образом уровень жизни человека связан с его правом на культурные ценности?
Как было отмечено выше, у культурных ценностей есть критерий универсальности, то есть отдельно взятая культурная ценность является элементом общего наследия человечества. Каждый человек имеет право пользоваться, изучать и наслаждаться этим наследием. Но не всякий может воспользоваться данным правом: если у человека нет хлеба насущного, то он, скорее всего, лишен возможности задумываться о духовной (культурной) стороне жизни. Человек, относящийся к социально незащищенным слоям общества, ограничен в реализации права на использование культурных ценностей.
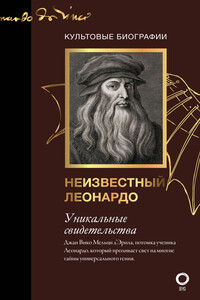
В своей книге прямой потомок Франческо Мельци, самого близкого друга и ученика Леонардо да Винчи — Джан Вико Мельци д’Эрил реконструирует биографию Леонардо, прослеживает жизнь картин и рукописей, которые предок автора Франческо Мельци получил по наследству. Гений живописи и науки показан в повседневной жизни и в периоды вдохновения и создания его великих творений. Книга проливает свет на многие тайны, знакомит с малоизвестными подробностями — и читается как детектив, основанный на реальных событиях. В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.
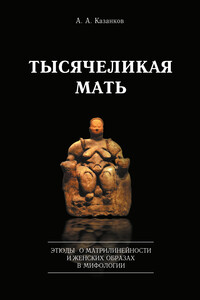
В настоящей монографии представлен ряд очерков, связанных общей идеей культурной диффузии ранних форм земледелия и животноводства, социальной организации и идеологии. Книга основана на обширных этнографических, археологических, фольклорных и лингвистических материалах. Используются также данные молекулярной генетики и палеоантропологии. Теоретическая позиция автора и способы его рассуждений весьма оригинальны, а изложение отличается живостью, прямотой и доходчивостью. Книга будет интересна как специалистам – антропологам, этнологам, историкам, фольклористам и лингвистам, так и широкому кругу читателей, интересующихся древнейшим прошлым человечества и культурой бесписьменных, безгосударственных обществ.

Книга посвящена особому периоду в жизни русского театра (1880–1890-е), названному золотым веком императорских театров. Именно в это время их директором был назначен И. А. Всеволожской, ставший инициатором грандиозных преобразований. В издании впервые публикуются воспоминания В. П. Погожева, помощника Всеволожского в должности управляющего театральной конторой в Петербурге. Погожев описывает театральную жизнь с разных сторон, но особое внимание в воспоминаниях уделено многим значимым персонажам конца XIX века. Начав с министра двора графа Воронцова-Дашкова и перебрав все персонажи, расположившиеся на иерархической лестнице русского императорского театра, Погожев рисует картину сложных взаимоотношений власти и искусства, остро напоминающую о сегодняшнем дне.
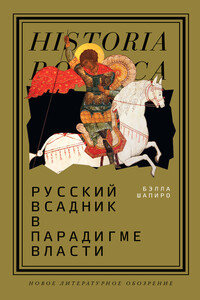
«Медный всадник», «Витязь на распутье», «Птица-тройка» — эти образы занимают центральное место в русской национальной мифологии. Монография Бэллы Шапиро показывает, как в отечественной культуре формировался и функционировал образ всадника. Первоначально святые защитники отечества изображались пешими; переход к конным изображениям хронологически совпадает со временем, когда на Руси складывается всадническая культура. Она породила обширную иконографию: святые воины-покровители сменили одеяния и крест мучеников на доспехи, оружие и коня.
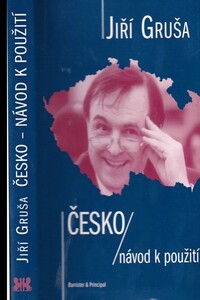
Это книга о чешской истории (особенно недавней), о чешских мифах и легендах, о темных страницах прошлого страны, о чешских комплексах и событиях, о которых сегодня говорят там довольно неохотно. А кроме того, это книга замечательного человека, обладающего огромным знанием, написана с с типично чешским чувством юмора. Одновременно можно ездить по Чехии, держа ее на коленях, потому что книга соответствует почти всем требования типичного гида. Многие факты для нашего читателя (русскоязычного), думаю малоизвестны и весьма интересны.
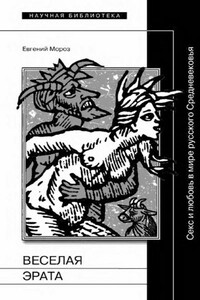
Книга Евгения Мороза посвящена исследованию секса и эротики в повседневной жизни людей Древней Руси. Автор рассматривает обширный и разнообразный материал: епитимийники, берестяные грамоты, граффити, фольклорные и литературные тексты, записки иностранцев о России. Предложена новая интерпретация ряда фольклорных и литературных произведений.
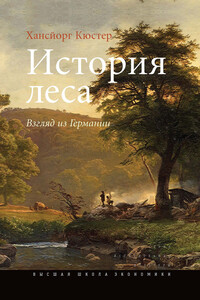
Лес часто воспринимают как символ природы, антипод цивилизации: где начинается лес, там заканчивается культура. Однако эта книга представляет читателю совсем иную картину. В любой стране мира, где растет лес, он играет в жизни людей огромную роль, однако отношение к нему может быть различным. В Германии связи между человеком и лесом традиционно очень сильны. Это отражается не только в облике лесов – ухоженных, послушных, пронизанных частой сетью дорожек и указателей. Не менее ярко явлена и обратная сторона – лесом пропитана вся немецкая культура.
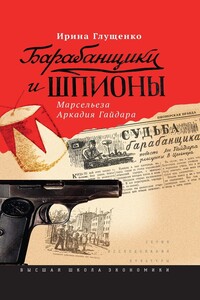
Книга Ирины Глущенко представляет собой культурологическое расследование. Автор приглашает читателя проверить наличие параллельных мотивов в трех произведениях, на первый взгляд не подлежащих сравнению: «Судьба барабанщика» Аркадия Гайдара (1938), «Дар» Владимира Набокова (1937) и «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова (1938). Выявление скрытой общности в книгах красного командира Гражданской войны, аристократа-эмигранта и бывшего врача в белогвардейской армии позволяет уловить дух времени конца 1930-х годов.

Понятие «человек» нуждается в срочном переопределении. «Постчеловек» – альтернатива для эпохи радикального биотехнологического развития, отвечающая политическим и экологическим императивам современности. Философский ландшафт, сформировавшийся в качестве реакции на кризис человека, включает несколько движений, в частности постгуманизм, трансгуманизм, антигуманизм и объектно-ориентированную онтологию. В этой книге объясняются сходства и различия данных направлений мысли, а также проводится подробное исследование ряда тем, которые подпадают под общую рубрику «постчеловек», таких как антропоцен, искусственный интеллект, биоэтика и деконструкция человека. Особое внимание Франческа Феррандо уделяет философскому постгуманизму, который она определяет как философию медиации, изучающую смысл человека не в отрыве, а в связи с технологией и экологией.
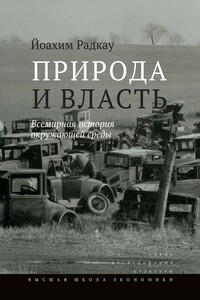
Взаимоотношения человека и природы не так давно стали темой исследований профессиональных историков. Для современного специалиста экологическая история (environmental history) ассоциируется прежде всего с американской наукой. Тем интереснее представить читателю книгу «Природа и власть» Йоахима Радкау, профессора Билефельдского университета, впервые изданную на немецком языке в 2000 г. Это первая попытка немецкоговорящего автора интерпретировать всемирную историю окружающей среды. Й. Радкау в своей книге путешествует по самым разным эпохам и ландшафтам – от «водных республик» Венеции и Голландии до рисоводческих террас Китая и Бали, встречается с самыми разными фигурами – от первобытных охотников до современных специалистов по помощи странам третьего мира.