Кукла-королева - [6]
— Да, мы вместе играли в парке... Очень давно.
— Сколько ей было тогда лет? — спрашивает совсем погасшим голосом старик.
— Лет семь... Да, не больше семи.
Голос женщины устремляется ввысь, вслед за вскинутыми, словно в мольбе, руками.
— Какая она была, сеньор, расскажите, расскажите скорей.
Я закрываю глаза.
— Амиламия — это лишь мои воспоминания. Я себе могу представить ее только рядом с вещами, которые она приносила, трогала, находила в парке. Да... Вот сейчас я вижу, как она спускается с холма. Нет, неправда, что это всего-навсего маленький бугор с чахлой травой! Это был холм, поросший сочным клевером, и Амиламия, бегая взад и вперед, протоптала там дорожку и оттуда сверху махала мне рукой, а потом сбегала вниз под музыку, да, да, под музыку моих глаз, под яркие краски моего обоняния, вкус моего слуха, запахи моего осязания... моих видений... Вы меня слушаете? Она летела ко мне навстречу в белом платье, в своем передничке в синюю клетку... тем самым, что висит у вас наверху.
Они берут меня за руки, а глаза мои по-прежнему закрыты.
— Какая она была, сеньор, расскажите, расскажите...
— У Амиламии серые глаза, и цвет ее волос меняется в тени деревьев и в отсветах солнца...
Они ведут меня оба осторожно. Я слышу одышку старика и мерный шорох от креста, который раскачивается на животе женщины...
— Расскажите, расскажите, пожалуйста...
— Она часто прибегала ко мне в радостных слезах.
Я не открываю глаз. Теперь мы подымаемся... Две, пять, восемь, девять, двенадцать ступенек. Четыре руки подталкивают меня кверху.
— Она любила сидеть под эвкалиптом и сплетать косичкой тонкие прутья и иногда притворялась, что плачет, чтобы я не уходил...
Скрипят дверные петли. Запах убивает все сразу, он отгоняет любое ощущение, усаживается, как Великий Могол, на трон моего воображения, тяжелый, будто кованый сундук, пронизывающий, словно шелест шелковых занавесей, сверкающий, как мертвая звезда, изукрашенный наподобие турецкого скипетра. Руки меня отпускают. Но теперь я в плену тихого, настойчивого плача.
Медленно поднимаю веки: пусть сначала сетка моих ресниц, роговица моих глаз воспримет это крохотное помещение, задушенное битвой ароматов, испарений, осыпи краснеющих лепестков.
Цветы здесь так неожиданны, в них такая власть, что они кажутся живыми существами. Сколько нежности в азалиях, сколько смертельной тоски в лилиях, какая церковная торжественность в гардениях, до чего отвратительна приторность тубероз! Маленькая каморка без окон, освещенная раскаленными добела ногтями восковых свеч, протягивает к моему мозгу тонкие щупальца сухого воска и влажных цветов, и тогда я возвращаюсь наконец к жизни, становлюсь зрячим и вижу там, позади свечей, среди разбросанных цветов, горку из старых игрушек: разноцветные обручи, смятые мячи, похожие на подгнившие сливы, деревянные лошадки с выдерганной гривой, ролики, безволосые, безглазые куклы, медведи, из которых давно высыпались опилки, съеденные молью собачки, скакалки, стеклянные вазочки с ссохшимися конфетами, продырявленные резиновые гуси, ношеные туфельки, три колеса, нет — два, и вовсе не от велосипеда: два параллельных колеса, кожаные ботиночки с замшевой отделкой. А напротив — можно достать рукой — маленький гроб, поставленный на синие ящики, украшенные бумажными цветами. Это уже цветы жизни — гвоздики, подсолнухи, маки, тюльпаны, но как те цветы — цветы смерти, они тоже необходимы, нужны здесь, где настаивалось дурманящее прелое тепло, нависшее над посеребренным гробиком, в котором на черных шелковых простынях и белой атласной подушке покоилось ясное неподвижное лицо, обрамленное кружевами и подкрашенное розовой краской. Брови на этом лице нарисованы тончайшей кистью, веки сомкнуты, а настоящие густые ресницы отбрасывают тень на щеки — такие же пухлые, пышущие здоровьем, как и те, что я видел в парке. Губы серьезные, вытянутые трубочкой, точь-в-точь как в те дни, когда Амиламия притворялась рассерженной, чтобы я все бросил и играл в ее игры. Руки сложены на груди. Четки, такие же как и у матери, плотно обвиты вокруг шеи из папье-маше.
Старики со слезами на глазах опускаются на колени.
Я протягиваю руку и пальцами прикасаюсь к фарфоровому лицу подруги моего детства. Какие холодные глаза, брови, рот у куклы-королевы, которая властвует над всем, что заполняет эту обитель смерти. Фарфор, вата и папье-маше. «Ни забывай сваю падругу и преходи ко мне по этаму ресунку».
Я отдергиваю руку от куклы-покойницы. На ее лице отпечатываются следы моих пальцев.
В моем желудке, вобравшем в себя чад восковых свечей и зловоние тубероз, поднимается тошнота. Я отворачиваюсь от куклы, от мертвой Амиламии. Сеньора дотрагивается до моего плеча. Глаза ее расширились, а голос по-прежнему ровный, безжизненный:
— Не приходите сюда больше, сеньор. Если вы действительно ее любили, никогда больше не приходите.
Я слегка касаюсь ладони этой женщины, вижу сквозь туман голову старика, спрятанную в коленях, и выбегаю из каморки на лестницу, потом в залу, оттуда во двор и на улицу.
Прошел, наверно, год, во всяком случае месяцев девять-десять. Воспоминания об этом странном идолопоклонстве уже не терзали меня, как прежде. Я забыл и запах цветов, и образ холодной куклы. Настоящая Амиламия вернулась ко мне, и я снова почувствовал себя если не счастливым, то, по крайней мере, здоровым. Парк, озорная девочка, книги моего отрочества вытеснили из памяти все подробности этой печальной встречи. Образ жизни побеждает все. Теперь я никогда не расстанусь с моей настоящей Амиламией, победившей безобразную карикатуру смерти. Я даже отваживаюсь однажды перелистать ту самую тетрадь в клеточку, где записывал вымышленные цифры. И вдруг из ее страниц снова, как и тогда, вылетает записка Амиламии с каракулями и планом дороги к ее дому. Я поднимаю записку, покусываю, улыбаясь, ее краешек, и тут мне приходит мысль, что бедные старики были бы, наверно, рады сохранить эту записку.
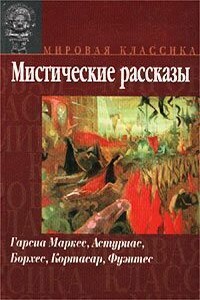
В увлекательных рассказах популярнейших латиноамериканских писателей фантастика чудесным образом сплелась с реальностью: магия индейских верований влияет на судьбы людей, а люди идут исхоженными путями по лабиринтам жизни. Многие из представленных рассказов публикуются впервые.

Великолепный роман-мистификация…Карлос Фуэнтес, работающий здесь исключительно на основе подлинных исторических документов, создает удивительную «реалистическую фантасмагорию».Романтика борьбы, мужественности и войны — и вкусный, потрясающий «местный колорит».Таков фон истории гениального американского автора «литературы ужасов» и известного журналиста Амброза Бирса, решившего принять участие в Мексиканской революции 1910-х годов — и бесследно исчезнувшего в Мексике.Что там произошло?В сущности, читателю это не так уж важно.Потому что в романе Фуэнтеса история переходит в стадию мифа — и возможным становится ВСЁ…
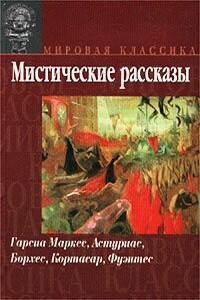
В увлекательных рассказах популярнейших латиноамериканских писателей фантастика чудесным образом сплелась с реальностью: магия индейских верований влияет на судьбы людей, а люди идут исхоженными путями по лабиринтам жизни. Многие из представленных рассказов публикуются впервые.

Прозаик, критик-эссеист, киносценарист, драматург, политический публицист, Фуэнтес стремится каждым своим произведением, к какому бы жанру оно не принадлежало, уловить биение пульса своего времени. Ведущая сила его творчества — активное страстное отношение к жизни, которое сделало писателя одним из выдающихся мастеров реализма в современной литературе Латинской Америки.

Прозаик, критик-эссеист, киносценарист, драматург, политический публицист, Фуэнтес стремится каждым своим произведением, к какому бы жанру оно не принадлежало, уловить биение пульса своего времени. Ведущая сила его творчества — активное страстное отношение к жизни, которое сделало писателя одним из выдающихся мастеров реализма в современной литературе Латинской Америки.

В сборнике представлены наиболее значительные повести современных мексиканских писателей: Карлоса Фуэнтеса, Рене Авилеса Фабилы, Хосе Эмилио Пачеко и Серхио Питоля. Авторы рассказывают об острых проблемах сегодняшней Мексики, в частности противоречии между пережитками далекого прошлого и тем новым, что властно вторгается в жизнь страны.
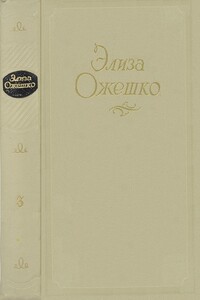
Роман «Над Неманом» выдающейся польской писательницы Элизы Ожешко (1841–1910) — великолепный гимн труду. Он весь пронизан глубокой мыслью, что самые лучшие человеческие качества — любовь, дружба, умение понимать и беречь природу, любить родину — даны только людям труда. Глубокая вера писательницы в благотворное влияние человеческого труда подчеркивается и судьбами героев романа. Выросшая в помещичьем доме Юстына Ожельская отказывается от брака по расчету и уходит к любимому — в мужицкую хату. Ее тетка Марта, которая много лет назад не нашла в себе подобной решимости, горько сожалеет в старости о своей ошибке…

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Цикл «Маленькие рассказы» был опубликован в 1946 г. в книге «Басни и маленькие рассказы», подготовленной к изданию Мирославом Галиком (издательство Франтишека Борового). В основу книги легла папка под приведенным выше названием, в которой находились газетные вырезки и рукописи. Папка эта была найдена в личном архиве писателя. Нетрудно заметить, что в этих рассказах-миниатюрах Чапек поднимает многие серьезные, злободневные вопросы, волновавшие чешскую общественность во второй половине 30-х годов, накануне фашистской оккупации Чехословакии.

Настоящий том «Библиотеки литературы США» посвящен творчеству Стивена Крейна (1871–1900) и Фрэнка Норриса (1871–1902), писавших на рубеже XIX и XX веков. Проложив в американской прозе путь натурализму, они остались в истории литературы США крупнейшими представителями этого направления. Стивен Крейн представлен романом «Алый знак доблести» (1895), Фрэнк Норрис — романом «Спрут» (1901).

В настоящем сборнике прозы Михая Бабича (1883—1941), классика венгерской литературы, поэта и прозаика, представлены повести и рассказы — увлекательное чтение для любителей сложной психологической прозы, поклонников фантастики и забавного юмора.

Чарлз Брокден Браун (1771-1810) – «отец» американского романа, первый серьезный прозаик Нового Света, журналист, критик, основавший журналы «Monthly Magazine», «Literary Magazine», «American Review», автор шести романов, лучшим из которых считается «Эдгар Хантли, или Мемуары сомнамбулы» («Edgar Huntly; or, Memoirs of a Sleepwalker», 1799). Детективный по сюжету, он построен как тонкий психологический этюд с нагнетанием ужаса посредством череды таинственных трагических событий, органично вплетенных в реалии современной автору Америки.