Кугитангская трагедия - [2]
Со всех сторон к мечети подступали жилища, и лишь широкая рыночная площадь прерывала нагромождение кибиток и юрт, деля Базар-Тёпе на две части. По одну сторону рынка селились люди племени гелекел, по другую — узун. Они не выказывали друг к другу особой вражды, но держались особняком. Каждый считал, что его племя выше и достойнее, но в общем-то как в одном, так и в другом племени люди занимались ремесленничеством, земледелием, скотоводством. Впрочем, баи, аула и муллы искусно создавали и поддерживали межплеменную вражду — это было им выгодно. Ведь с враждующих, которые беспрестанно шли в мечеть с жалобами на своих соседей, святые отцы получали мзду. От этих взяток, подачек и хушир-закята — основного налога в пользу мечети, они баснословно богатели. Безропотное поклонение аллаху, верность адату и шариату, казалось, были написаны на лице каждого базартепинца.
Широкая, разветвлённая система духовенства глубоко вошла в жизнь и быт здешних людей.
К концу прошлого столетия около пятисот хозяйств Базар-Тёпе всецело подчинились старосте Махматкулу-эмину, кази — молле Ачилды, блюстителю порядка. Джафару Махматкул-эмин-оглы и влиятельным аксакалам — вожакам племён. В свою очередь, правители Базар-Тёпе держали ответ перед келифским беком и кугитангским кази, а те входили в состав правящей верхушки эмира бухарского.
Словом, аул Базар-Тёпе был таким же, как и сотни других туркменских аулов. С утра выкрикивал призыв к молитве азанчи, и люди, опустившись на коврики, свершали намаз. Но едва наступал день — начинались иные заботы. Гончары принимались за изготовление чашек и пиал, женщины начинали хлопотать по хозяйству — заквашивали молоко и пекли чуреки, а детвора обычно выгоняла коров, коз и баранов в ущелья, на траву. Дюжие чабаны в мохнатых тельпеках, с кривыми палками в руках и огромными овчарками ходили за отарами, охраняя байское добро. Часть мужчин уходила на разработку соли, которую они добывали в горах и пещерах Базар-Тёпе. По возвращении они измельчали её и продавали приезжим торговцам.
Наличие здесь горной речки Куйтен-Кугитанг сделало это место удобным для развития животноводства, в силу чего тут образовалось много аулов. Речка эта существует и в настоящее время, — по ней постоянно струится вода, — хорошее подспорье для колхоза имени М. В. Фрунзе Чаршангинского района.
В одну из пятниц, к вечеру, когда уставший люд покидал базарную площадь, в горах начали собираться тучи. Пространства от Амударьи до самого подножия гор было пока что светлым, но и тут парило и пахло близким дождём. Тучи постепенно надвигались на равнину, беспокоя всё живое влажным удушьем. Вскоре далеко над вершинами стали вырисовываться синие вертикальные полосы и донёсся отдалённый гром. Возле юрт тревожно замычали коровы, поворачивая длинные шеи, забеспокоились верблюды.
Ишали-ага едва успел возвратиться с базара, пошёл дождь, а затем густой крупный град. Вместе >с лавиной белых скользких шариков, с неба обрушилась яркая, вспарывающая тучи молния и прогремел прямо над Базар-Тёпе гром.
— Аллах всевышний, всемилостивый; спаси нас, — испуганно прошептал Ишали-ага и, войдя в глинобитную кибитку, крикнул; — Эй, кто тут! Солтанмурад!
Из глубины тёмной комнаты, откликаясь, вышла женщина. Лицо её было испуганным, Ишали-ага понял, что ни Солтанмурад, ни пятнадцатилетняя дочь Янгыл не вернулись ещё с гор. Утром, как всегда, они отправились пасти коз. А теперь их застал град и они, наверное, отсиживаются где-нибудь под скалами.
Ишали-ага вновь направился было во двор, но отпрянул перед ужасающим зрелищем: вся равнина от гор до Амударьи, от земли до неба закрылась чёрным пологом и змеевидными молниями. Град хлестал с ожесточённой силой, и уже со двора к склону холма бежали мутные ручьи. «А что там теперь творится! — подумал Ишали-ага о горных лощинах. — Надо бы поехать туда, но как?» В Базар-Тёпе не слышалось вовсе людских голосов, всё заглушал шум падающего града…
Хлынувший внезапно среди дня ливень, а потом и град застал детей Ишали-ага в неглубокой, травянистой лощине. Солтанмурад в это время, забыв о козах, положившись целиком на свою сестру Янгыл, увлечённо играл с дружками в шашки — дуззум. А Янгыл сидела под деревом на пологом склоне ущелья и перебирала тюльпаны, которые ей принёс с вершины горы соседский юноша Арзы. Девушка давно уже замечала за ним, что он неравнодушен к ней — так и ищет момента, чтобы остаться с ней наедине. А в последние дни он вовсе не отходил от неё, стараясь предугадать все её желания. Утром, едва она заметила, что белая коза отбилась от стада, — Арзы сразу схватил кнут и возвратил козу в стадо. Потом он посмотрел на девушку горячими влюблёнными глазами, и она, не зная, как вести себя с ним, вдруг заговорила о цветах. Тогда Арзы, словно молодой орёл, сорвался с места и помчался в гору. Вскоре он вернулся с целой охапкой ярко-красных тюльпанов.
Первые крупные капли дождя вспугнули Солтан-мурада.
— Эй, Янгыл-джан! — крикнул он. — Не пора ли домой? Дождь пошёл!
— Ох, какой ты трусливый! — насмешливо отозвалась Янгыл. — Дождя испугался! — Ей не хотелось уходить с этого места. Нравилось бесконечно перебирать тюльпаны и чувствовать на себе тёплый, ласковый взгляд Арзы.
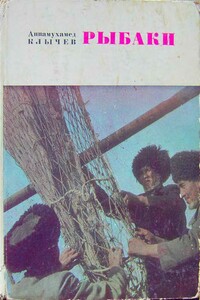
Новая книга очерков — результат последующего изучения автором родного края. В ней он рассказывает об этапах развития рыбного промысла на восточном побережье Каспия, а также останавливается на развитии и современном состоянии рыбных промыслов во внутренних водоёмах республики.В очерках показана тяжёлая жизнь дореволюционного рыбака-туркмена, его борьба за лучшую долю на протяжении более двух столетий, вплоть до победы Советской власти.В описании послереволюционного периода показаны современное состояние рыбных промыслов, лучшие люди рыболовецких колхозов и Гослова восточного побережья, дан портрет сына рыбака — первого Председателя ЦИК Туркменской ССР Недирбая Айтакова.Документальные материалы и эпизоды из жизни рыбаков, связанные с трудной профессией морского лова, делают очерки живыми, убедительными.В очерках дана краткая природно-географическая справка о побережье и об истории формирования Каспийского бассейна.Книга богато иллюстрирована документальными фотографиями.Рассчитана на широкий круг читателей.
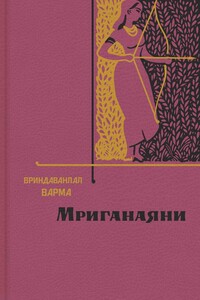
Роман индийского писателя повествует об истории Индии на рубеже XV и XVI веков, накануне образования империи Великих Моголов, рассказывает о междоусобной борьбе раджпутских княжеств. Книга завоевала пять литературных премий и получила широкое признание в своей стране.

Жан-Мишель Тернье, студент Парижского университета, нашел в закоулке на месте ночной драки оброненную книгу — редкую, дорогую: первый сборник стихов на французском языке, изданный типографским способом: «Le grant testament Villon et le petit . Son Codicille. Le Jargon et ses Balades». Стихи увлекли студента… Еще сильнее увлекла личность автора стихов — и желание разузнать подробности жизни Вийона постепенно переросло в желание очистить его имя от обвинений в пороках и ужасных преступлениях. Студент предпринял исследование и провел целую зиму с Вийоном — зиму, навсегда изменившую школяра…

Действие романа относится к I веку н. э. — времени становления христианства; события, полные драматизма, описываемые в нем, связаны с чашей, из которой пил Иисус во время тайной вечери, а среди участников событий — и святые апостолы. Главный герой — молодой скульптор из Антиохии Василий. Врач Лука, известный нам как апостол Лука, приводит его в дом Иосифа Аримафейского, где хранится чаша, из которой пил сам Христос во время последней вечери с апостолами. Василию заказывают оправу для святой чаши — так начинается одиссея скульптора и чаши, которых преследуют фанатики-иудеи и римляне.

Данная книга посвящена истории Крымской войны, которая в широких читательских кругах запомнилась знаменитой «Севастопольской страдой». Это не совсем точно. Как теперь установлено, то была, по сути, война России со всем тогдашним цивилизованным миром. Россию хотели отбросить в Азию, но это не удалось. В книге представлены документы и мемуары, в том числе иностранные, роман писателя С. Сергеева-Ценского, а также повесть писателя С. Семанова о канцлере М. Горчакове, 200-летие которого широко отмечалось в России в 1998 году. В сборнике: Сергеев-Ценский Серг.
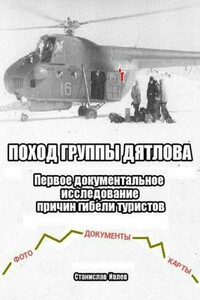
В 1959 году группа туристов отправилась из Свердловска в поход по горам Северного Урала. Их маршрут труден и не изведан. Решив заночевать на горе 1079, туристы попадают в условия, которые прекращают их последний поход. Поиски долгие и трудные. Находки в горах озадачат всех. Гору не случайно здесь прозвали «Гора Мертвецов». Очень много загадок. Но так ли всё необъяснимо? Автор создаёт документальную реконструкцию гибели туристов, предлагая читателю самому стать участником поисков.
