Крузо - [137]
В задней комнате «Эскины» располагалась маленькая парикмахерская, явно главная фишка кафе. Через стеклянную дверь, на которую был наклеен силуэт огромных ножниц, можно было наблюдать за работой парикмахерши. Я как раз начал есть сандвич (сандвич в одной руке, шариковая ручка в другой), когда парикмахерша заперла свой салон. Она уже надела пальто и приготовила пластиковый мешок с мусором. Присела на корточки (весьма изящно) и пыталась затянуть завязки мешка, но безуспешно. Я уже подумывал, не записать ли и это. Когда она проходила мимо меня, я увидел, что мешок полон волос – битком набит волосами.
Еще в дверях я обогнал парикмахершу, но не сумел юркнуть в угол или хотя бы отойти на метр в сторону. Если точно, меня стошнило прямо ей под ноги. Молодая парикмахерша, закончившая работу, хорошо одетая (наверняка приглашена на ужин, в кино, на концерт или куда-нибудь еще), а я бросился за нею следом и наблевал ей под ноги, ей, и себе, и ее мешку с волосами, этому чудищу, мерзкому, пятнистому комку, спутанному, слипшемуся вороху человечьего мусора. Она издала короткий датский вопль, наподобие «э», и крикнула что-то внутрь кафе. Я блевал и орал. В душе орал на нее, а одновременно на улицу, орал в копенгагенскую ночь: какого черта ты тащишь эти трупы к моему столику? На что мне все эти трупы? А?
Месяцы спустя, прежде чем начал писать этот отчет, я во сне увидел умерших. Они стояли у дороги, изувеченные, почти неопределимые фигуры (отчеты о вскрытии похожи на описания картинок, говорил Мадсен), и спрашивали свои имена. Меня зовут корабельный винт? Меня зовут резиновая кукла? Или меня зовут Вальтер? Или Моника? Во сне казалось, будто ответ нужно найти прямо сейчас, будто времени остается в обрез и это последняя возможность, пока они снова не ушли с этой дороги, без вопросов, без следа, как их никогда и не было.
Но я уехал, в архив не вернулся. Да и мой отчет свидетельствует, насколько плохо я гожусь для этого, насколько эта задача была мне не по плечу. Отчет полон второстепенных деталей, вдобавок чувства и мысли там, где речь должна идти только о фактах.
Были и другие причины. Я ступил в их владения, на территорию умерших, случайно это был я, возможно, все дело в этом, и писание было обороной, щитом, маскхалатом, без блокнота я не видел ничего. Они меня не выбирали, и никто не выбирал, это я понимал. Я не исследователь, не историк, пути розысков мне неведомы, я просто следовал обещанию, законам дружбы, если угодно, в начале было только одно: просьба Крузо. А больше ничего. Но потом я преступил ту границу, когда сказал о третьем исчезновении, когда начал думать точно так же.
По крайней мере, пока я писал, ко мне вернулся здравый смысл, и тупо саднящее место внутри успокоилось. Я пошел в сарай, расположенный чуть в стороне от дома, я давно туда не заходил. У дверей подгнивший ковер из сосновых игл. Немного погодя я нашел то, что искал, светло-желтый посылочный ящик, на полке с детскими игрушками, техническим хламом, ни разу не использованными тренажерами. На всем этом лежала глухая печаль, затхлая, прелая. Я открыл ящик. В свитере обнаружился большой липкий кокон моли, замшевые ботинки покрыты плесенью. То и другое было на мне, когда я покинул остров, ботинки и свитер, да и позднее тоже. За подкладкой в сумке (все было холодное, отсыревшее) нашлись очки Шпайхе – пока выздоравливал в «Отшельнике», я сам запихал их туда и с тех пор ни разу не вспоминал, ни секунды.
Хранение этих вещей наверняка было не более чем попыткой затушевать тот факт, что я использовал и износил вещи, мне не принадлежавшие. Если однажды Шпайхе вдруг объявится, я хотя бы смогу… Так или примерно так, вероятно, думал тот, кем я был тогда, думал минуту-другую, прежде чем отправил ящик в забвение.
Хотя речь (более-менее) шла о прямо противоположном, я казался себе расхитителем могил, когда с картонным ящиком под мышкой вошел на кладбище. Едва я поставил ящик наземь, как за спиной кто-то меня окликнул, по-русски. Я не оглянулся, однако человек подошел ближе. Он был в форме, шинель расстегнута, и без сомнения пьян. Я поспешно собрал остатки школьного русского (двенадцать слов, пожалуй, иногда побольше), но они не понадобились.
– Не пить, фашист! – Русский схватил меня за плечо и повел через кладбище, мимо голема, по вязким, раскисшим дорожкам к своей могиле. Он показал на нее.
Их было трое, две женщины и он. Женщины в куртках и головных платках, старшая в валенках. Сидели они на маленькой пластиковой подстилке. Нижнюю часть могилы застелили полотенцем, на котором лежали шоколад, сало и сигареты, к надгробию прислонена банка консервов.
– Пей-пей, товарищ, пять минут… никс фашист! – Ладонь разрубила воздух у меня перед грудью, и тем все решилось. Водка называлась «Парламент». У них даже стаканы с собой были, с золотым ободком. Первый глоток русский вылил на правый угол могилы, рядом с надгробием. Потом закурил сразу две сигареты. Одну воткнул в могилу, где та медленно сгорала. Женщины разговаривали с умершим, поглаживали землю, раздували огонек сигареты. Временами тихие, но безудержные всхлипывания, вроде как плач, прерывавшийся каждые несколько секунд, потом опять водка. Русский задремал. Выглядел он довольным. Я встал, попрощался с женщинами – кажется, даже поклонился – и вернулся к своей могиле. Я был рад, что оказался «никс фашист», и, вероятно, здорово захмелел.
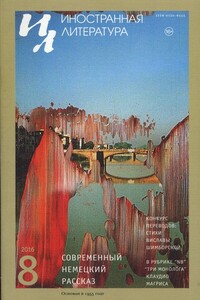
Сдавая эстетику и отвечая на вопрос «Прекрасное», герой впадает в некий транс и превращается в себя же малого ребенка, некогда звавшего подружек-близнецов и этим зовом одновременно как бы воспевавшего «родную деревню, мой мир, свое одиночество и собственный голос».Из журнала «Иностранная литература» № 8, 2016.

Автобиографичные романы бывают разными. Порой – это воспоминания, воспроизведенные со скрупулезной точностью историка. Порой – мечтательные мемуары о душевных волнениях и перипетиях судьбы. А иногда – это настроение, которое ловишь в каждой строчке, отвлекаясь на форму, обтекая восприятием содержание. К третьей категории можно отнести «Верхом на звезде» Павла Антипова. На поверхности – рассказ о друзьях, чья молодость выпала на 2000-е годы. Они растут, шалят, ссорятся и мирятся, любят и чувствуют. Но это лишь оболочка смысла.
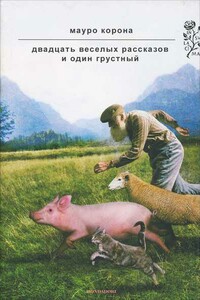
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
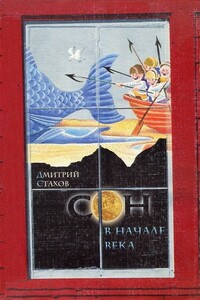
УДК 82-1/9 (31)ББК 84С11С 78Художник Леонид ЛюскинСтахов Дмитрий ЯковлевичСон в начале века : Роман, рассказы /Дмитрий Стахов. — «Олита», 2004. — 320 с.Рассказы и роман «История страданий бедолаги, или Семь путешествий Половинкина» (номинировался на премию «Русский бестселлер» в 2001 году), составляющие книгу «Сон в начале века», наполнены безудержным, безалаберным, сумасшедшим весельем. Весельем на фоне нарастающего абсурда, безумных сюжетных поворотов. Блестящий язык автора, обращение к фольклору — позволяют объемно изобразить сегодняшнюю жизнь...ISBN 5-98040-035-4© ЗАО «Олита»© Д.
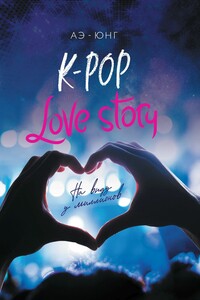
Элис давно хотела поработать на концертной площадке, и сразу после окончания школы она решает осуществить свою мечту. Судьба это или случайность, но за кулисами она становится невольным свидетелем ссоры между лидером ее любимой K-pop группы и их менеджером, которые бурно обсуждают шумиху вокруг личной жизни артиста. Разъяренный менеджер замечает девушку, и у него сразу же возникает идея, как успокоить фанатов и журналистов: нужно лишь разыграть любовь между Элис и айдолом миллионов. Но примет ли она это провокационное предложение, способное изменить ее жизнь? Догадаются ли все вокруг, что история невероятной любви – это виртуозная игра?
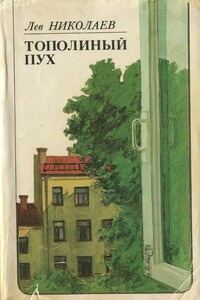
Очень просты эти понятия — честность, порядочность, доброта. Но далеко не проста и не пряма дорога к ним. Сереже Тимофееву, герою повести Л. Николаева, придется преодолеть немало ошибок, заблуждений, срывов, прежде чем честность, и порядочность, и доброта станут чертами его характера. В повести воссоздаются точная, увиденная глазами московского мальчишки атмосфера, быт послевоенной столицы.

Действие повести происходит в период 2-й гражданской войны в Китае 1927-1936 гг. и нашествия японцев.