Кризис буржуазной философии - [5]
Но именно поэтому основополагающая независимость, основополагающее критическое отношение будут все более слабыми (подумаем в качестве примера о Гоббсе, Руссо или Фихте в классическую эпоху). Появляется множество утопий, касающихся трансформации культуры, возможно, и в "более революционной" форме, чем у Ницше, но экономические и политические основы капитализма остаются неприкосновенными. Ницше наиболее резко критикует культурные симптомы капиталистического разделения труда, но на капиталистическую систему труда саму по себе он, однако же, посягать не собирается.
В центре внимания философской критики, часто с "революционным" размахом, доведенным почти до крайности, находится критика идеи прогресса. Однако никто не говорит о том (во многих случаях ни мыслитель, ни его интеллигентная публика ничего об этом и не знает), что такая "рискованная" постановка вопроса есть лишь идеологическое отражение враждебного по отношению к прогрессу развития буржуазии, ее компромиссов с реакционными пережитками общества, что вопрос этот в эпоху империализма принимает такие острые формы потому, что внутри империалистического монопольного капитализма значительно укрепляется союз ведущего сословия капиталистического производства со всеми реакционными общественными силами. Реакционное содержание и революционные жесты заключают оригинальный и любопытный брак. Подумаем о Лагарде, Ницше, Сореле, Ортеге-и-Гассете. Накануне захвата власти фашизмом Фрайер подвел итоги в кратком лозунге: революция справа.
В связи с этим развитием параллельно с тем, что мировоззренческие вопросы выходят на передний план, меняется также отношение философии к религии. В предшествующую эпоху агностически проведенные границы служили только для того, чтобы сделать материалистический атеизм невозможным с философской точки зрения и дискредитировать его. Поворот к позитивному мировоззрению отчасти приводит к новому оправданию религии, отчасти к созданию нового религиозного атеизма, чье мировоззренческое и моральное содержание, однако, образует полную противоположность материалистическому атеизму. Эти изменения мы можем проследить от Ницше вплоть до экзистенциализма Хайдеггера и Сартра.
В то же время в эпоху империализма естественные науки в основном направлении их популяризации превращаются в оружие реакционного мировоззрения. В предшествующую эпоху реакционная философия первоначально заняла здесь оборонительную позицию. Агностицизм, "ignorabimus"[1] Эмиля дю Буа-Реймона, был еще лишь одним противовесом для мировоззренческих выводов геккелевского материализма. Однако в школе Маха-Авенариуса-Пуанкаре распространялась уже открытая защита реакционных взглядов. В эпоху империализма эта тенденция постоянно усиливалась, философия интерпретировала каждое новое достижение в области естественных наук как подтверждение реакционного мировоззрения, якобы основанное на фактах.
Говоря о теоретико-познавательном базисе всех этих явлений, следует отметить: субъективный идеализм предшествующей эпохи по-прежнему остается основной теорией познания. Это не случайность, так как идеализм является "естественно", спонтанно вырастающим мировоззрением интеллигенции, в особенности свободной интеллигенции. Труд, который, в конечном счете, определяет отношение людей к миру, по своей сути имеет двойное дно: труд сам по себе демонстрирует такое положение дел, при котором существование материального мира не зависит от сознания; но в то же время любой процесс труда имеет телеологический характер, то есть человек осознает мысленно представляемую цель, прежде чем материальный процесс труда начинается. Поскольку интеллигенция все больше отдаляется от материального процесса труда, в ее сознании во все большей степени действует почти что исключительно второй момент. Чем больше интеллигентное сословие отдалено от реального труда, от практического контакта с материальными категориями действительности, тем сильнее воздействует на нее этот мотив. Поэтому может случиться так, что ученые-естественники в своей специальной работе — часто в противоположность их собственным философским убеждениям — оказываются стихийными материалистами. Риккерт, например, сожалеет, что крупные ученые в своей области признали себя сторонниками "наивного реализма". Чем шире становится самостоятельная, особая роль интеллигенции в философии, тем значительнее в теории познания господствует субъективный идеализм.
4 Псевдообъективность
Но даже если мы и утверждаем, что эта теоретико-познавательная основа осталась нетронутой, мы в то же время все же должны учесть, что — по сравнению с предшествующей эпохой — в философии эпохи империализма произошло существенное изменение. Важнейшие моменты этого изменения Каковы: наигранное стремление к объективности, далее, борьба против формализма теории познания, его кажущееся преодоление и связанный с этим триумф мистической интуиции, которая выдвигается в центр внимания как новый инструмент философского знания, и, наконец, новая постановка мировоззренческого вопроса вместо последовательного агностицизма предшествующей эпохи.
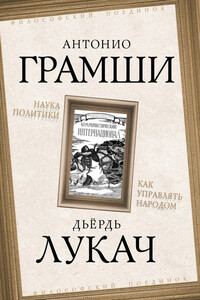
Антонио Грамши – видный итальянский политический деятель, писатель и мыслитель. Считается одним из основоположников неомарксизма, в то же время его называют своим предшественником «новые правые» в Европе. Одно из главных положений теории Грамши – учение о гегемонии, т. е. господстве определенного класса в государстве с помощью не столько принуждения, сколько идеологической обработки населения через СМИ, образовательные и культурные учреждения, церковь и т. д. Дьёрдь Лукач – венгерский философ и писатель, наряду с Грамши одна из ключевых фигур западного марксизма.

"Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены" #1(69), 2004 г., сс.91–97Перевод с немецкого: И.Болдырев, 2003 Перевод выполнен по изданию:G. Lukacs. Von der Verantwortung der Intellektuellen //Schiksalswende. Beitrage zu einer neuen deutschen Ideologie. Aufbau Verlag, Berlin, 1956. (ss. 238–245).

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Стоицизм, самая влиятельная философская школа в Римской империи, предлагает действенные способы укрепить характер перед вызовами современных реалий. Сенека, которого считают самым талантливым и гуманным автором в истории стоицизма, учит нас необходимости свободы и цели в жизни. Его самый объемный труд, более сотни «Нравственных писем к Луцилию», адресованных близкому другу, рассказывает о том, как научиться утраченному искусству дружбы и осознать истинную ее природу, как преодолеть гнев, как встречать горе, как превратить неудачи в возможности для развития, как жить в обществе, как быть искренним, как жить, не боясь смерти, как полной грудью ощущать любовь и благодарность и как обрести свободу, спокойствие и радость. В этой книге, права на перевод которой купили 14 стран, философ Дэвид Фиделер анализирует классические работы Сенеки, объясняя его идеи, но не упрощая их.

Какую форму может принять радикальная политика в то время, когда заброшены революционные проекты прошлого? В свете недавних восстаний против неолиберального капиталистического строя, Сол Ньюман утверждает, сейчас наш современный политический горизонт формирует пост анархизм. В этой книге Ньюман развивает оригинальную политическую теорию антиавторитарной политики, которая начинается, а не заканчивается анархией. Опираясь на ряд неортодоксальных мыслителей, включая Штирнера и Фуко, автор не только исследует текущие условия для радикальной политической мысли и действий, но и предлагает новые формы политики в стремлении к автономной жизни. По мере того, как обнажается нигилизм и пустота политического и экономического порядка, постанархизм предлагает нам подлинный освободительный потенциал.

Целью данного учебного пособия является знакомство магистрантов и аспирантов, обучающихся по специальностям «политология» и «международные отношения», с основными течениями мировой политической мысли в эпоху позднего Модерна (Современности). Основное внимание уделяется онтологическим, эпистемологическим и методологическим основаниям анализа современных международных и внутриполитических процессов. Особенностью курса является сочетание изложения важнейших политических теорий через взгляды представителей наиболее влиятельных школ и течений политической мысли с обучением их практическому использованию в политическом анализе, а также интерпретации «знаковых» текстов. Для магистрантов и аспирантов, обучающихся по направлению «Международные отношения», а также для всех, кто интересуется различными аспектами международных отношений и мировой политикой и приступает к их изучению.

Люди странные? О да!А кто не согласен, пусть попробует объяснить что мы из себя представляем инопланетянам.

Основой этой книги является систематическая трактовка исторического перехода Запада от монархии к демократии. Ревизионистская по характеру, она описывает, почему монархия меньшее зло, чем демократия, но при этом находит недостатки в обоих. Ее методология аксиомативно-дедуктивная, она позволяет писателю выводить экономические и социологические теоремы, а затем применять их для интерпретации исторических событий. Неотразимая глава о временных предпочтениях объясняет процесс цивилизации как результат снижающихся ставок временного предпочтения и постройки структуры капитала, и объясняет, как взаимодействия между людьми могут снизить ставку временных предпочтений, проводя параллели с Рикардианским Законом об образовании связей. Сфокусировавшись на этом, автор интерпретирует разные исторические феномены, такие как рост уровня преступности, деградация стандартов морали и рост сверхгосударства.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.