Критические очерки европейской антропологии - [5]
Как сказано выше, эти структурные особенности равно присущи и античной, и новоевропейской метафизике. Антиантропологизм, вытеснение человека – имманентная черта метафизики как таковой, и человек – извечный Фирс метафизики: таково амплуа, прочно определенное ему в ней ее отцом. Но в ходе европейской истории был период, когда это амплуа на время поколебалось – или точнее, когда рефлектирующая мысль готова была покинуть метафизические рамки в пользу некоторого иного способа, который не вытеснял бы человека, а ставил его, напротив, в центр. Разумеется, этим поворотом к человеку – даже, если угодно, антропологической революцией – было пришествие христианства: онтологическое событие Боговочеловечения, воплощение Бога в обычном порядке человеческого существования, в образе сына плотника, не могло с силой не обратить мысль к человеку – его природе, судьбе, границам. Христианство несло в себе мощный импульс антропологической переориентации всего мироотношения и мировоззрения; и все же, в ходе формирования христианского вероучения, в эпоху патристики и Соборов, христианская антропология не была создана в собственно философской форме. Был создан богатый антропологический дискурс, однако он обладал непростым строением. Главные тезисы о человеке и его ситуации в бытии были здесь выражены в особом новом дискурсе «догматического богословия». Этот дискурс имел принципиальные отличия от философского дискурса (нам сейчас нет нужды обсуждать существо этих отличий и порожденную ими проблему конфликта философии и богословия), и даже не был, по крайней мере, явно, антропологическим дискурсом: его антропологическое содержание было имплицитным, закодированным в форме высказываний о Боге. Другой важной составляющей христианской антропологии была практическая антропология развивавшейся в восточном христианстве аскетической традиции – и она была еще дальше от философского дискурса. Ее содержание, включавшее и глубокие антропологические открытия, оставалось долгое время замкнуто в сфере практической религиозности, не получая продумывания и осмысления вне рамок самой традиции и ее специфического языка. В итоге, с приходом христианства философия не испытала кардинального антропологического поворота. Вместо этого она первоначально оказалась оттеснена богословием, а когда затем постепенно начала восстанавливать позиции, то, не пройдя внутренней трансформации, скорее отталкивалась от христианского богословия и влеклась к прежнему античному способу. Окончательным воссоединением с этим философским способом стала мысль Декарта.
Творчество Боэция – та фаза богословской мысли на Западе, когда собственно богословие еще не совсем отделилось в ней как от философии (метафизики), так и от антропологии. Категории личного бытия, которые усиленно разрабатывались греческой патристикой и выступали в ней как специфически богословские понятия, у Боэция еще свободно рассматриваются и как понятия антропологические – что приносит для антропологии заметную пользу. Боэций – не слишком оригинальный и крупный, однако пытливый и честный философский ум. Как философ, он принадлежит к руслу аристотелизма в позднеантичной редакции Порфирия; но когда те или иные факторы толкают его к выходу за пределы этого русла, он способен представить самостоятельное философское решение. Соответственно, мы не обнаружим существенной оригинальности в его Комментарии к знаменитому Введению Порфирия к «Категориям» Аристотеля, однако в трактате «Против Евтихия и Нестория», где он обращается к философской тематизации проблемы лица и личности в рамках латинской терминологии, ситуация складывается иначе.
Направляющей нитью здесь служит трактовка этой проблемы в греческом патристическом богословии; и можно сказать, что у Боэция постановка и решение проблемы представляют собой как бы умаленное подобие патристической разработки. В трудах греческих Отцов строилась конституция личного бытия как особого онтологического горизонта, иного по отношению к здешнему бытию, причем необходимый фонд понятий и самый дискурс, выражающие эту конституцию, создавались заново и впервые. Как христианин V века, Боэций не мог не сознавать, хотя бы интуитивно, наличия этого онтологического измерения проблемы; но как философ, он не мог достичь его схватывающего узрения (оно будет достигнуто лишь в зрелой схоластике). Поэтому, в терминах позднейшей философии, рассмотрение Боэция развертывается не в онтологическом, а лишь в онтическом плане и, ориентируясь на греческий образец, оно представляет собой не столько создание нового круга понятий, сколько его трансляцию, перевод. Однако трансляция осуществлялась не только с греческого на латынь, но одновременно – из патристического богословия в традиционный метафизический дискурс, которому еще предстояла долгая жизнь; и за счет этого опыт Боэция занимает самостоятельное место в метафизической традиции и классической антропологической модели.
Руководясь патристической разработкой личностных понятий, Боэций приходит к существенному развитию и видоизменению аристотелианских концептов. Модифицируется уже верховное понятие, сущность. У самого Стагирита оно обладало огромной широтой, будучи объединяющим термином для всех «имен бытия» – характеризаций реальности и ее элементов по любому положительному содержанию, материальному или нет, К сущностям принадлежали и универсалии, и субстанции, и единичные предметы, образуя обширную, разветвленную номенклатуру. Отнюдь не так у Боэция: по верному суждению современного комментатора, «Боэций понимает сущность достаточно узко и вполне в духе нашего времени – как то, что определяет специфику предмета и составляет его природу»

Самый чистый и самый благородный из великих людей новой русской истории.- П.А. Флоренский Колумбом, открывшим Россию, называли Хомякова. К. Бестужев-Рюмин сказал: "Да, у нас в умственной сфере равны с ним только Ломоносов и Пушкин. Мы же берем для себя великой целью слова А.С. Хомякова: "Для России возможна только одна задача - сделаться самым христианским из человеческих обществ".Источник: Библиотека "Института Сенергийной Антрополгии" (http://synergia-isa.ru/?page_id=4301#H)

Из истории отечественной философской мыслиОт редакции. Мы продолжаем рубрику «Из истории отечественной философской мысли» подборкой, посвященной творчеству известного историка и философа Л. П. Карсавина. К сожалению, имя этого мыслителя почти забыто, его идеи, тесно связанные с религиозно-философской традицией обсуждения важнейших проблем человеческой свободы, пониманием личности и истории, сути общественных преобразований, практически не анализировались в нашей литературе. Рукописи Карсавина «Жозеф де Местр», публикуемой впервые, до сих пор лежавшей в архиве, предпослана статья С.
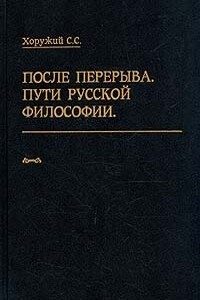
С. С. Хоружий. После перерыва. Пути русской философии. Здесь только первая часть — О пройденном: вокруг всеединстваИсточник: http://www.synergia-isa.ru.

Предмет моего доклада — проблематика междисциплинарности в гуманитарном познании. Я опишу особенности этой проблематики, а затем представлю новый подход к ней, который предлагает синергийная антропология, развиваемое мной антропологическое направление. Чтобы понять логику и задачи данного подхода, потребуется также некоторая преамбула о специфике гуманитарной методологии и эпистемологии.Источник: Библиотека "Института Сенергийной Антрополгии" http://synergia-isa.ru/?page_id=4301#H".
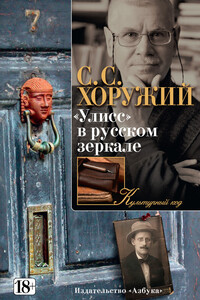
Сергей Сергеевич Хоружий, российский физик, философ, переводчик, совершил своего рода литературный подвиг, не только завершив перевод одного из самых сложных и ярких романов ХХ века, «Улисса» Джеймса Джойса («божественного творения искусства», по словам Набокова), но и написав к нему обширный комментарий, равного которому трудно сыскать даже на родном языке автора. Сергей Хоружий перевел также всю раннюю, не изданную при жизни, прозу Джойса, сборник рассказов «Дублинцы» и роман «Портрет художника в юности», создавая к каждому произведению подробные комментарии и вступительные статьи.«„Улисс“ в русском зеркале» – очень своеобычное сочинение, которое органически дополняет многолетнюю работу автора по переводу и комментированию прозы Джойса.

Стоицизм, самая влиятельная философская школа в Римской империи, предлагает действенные способы укрепить характер перед вызовами современных реалий. Сенека, которого считают самым талантливым и гуманным автором в истории стоицизма, учит нас необходимости свободы и цели в жизни. Его самый объемный труд, более сотни «Нравственных писем к Луцилию», адресованных близкому другу, рассказывает о том, как научиться утраченному искусству дружбы и осознать истинную ее природу, как преодолеть гнев, как встречать горе, как превратить неудачи в возможности для развития, как жить в обществе, как быть искренним, как жить, не боясь смерти, как полной грудью ощущать любовь и благодарность и как обрести свободу, спокойствие и радость. В этой книге, права на перевод которой купили 14 стран, философ Дэвид Фиделер анализирует классические работы Сенеки, объясняя его идеи, но не упрощая их.

Какую форму может принять радикальная политика в то время, когда заброшены революционные проекты прошлого? В свете недавних восстаний против неолиберального капиталистического строя, Сол Ньюман утверждает, сейчас наш современный политический горизонт формирует пост анархизм. В этой книге Ньюман развивает оригинальную политическую теорию антиавторитарной политики, которая начинается, а не заканчивается анархией. Опираясь на ряд неортодоксальных мыслителей, включая Штирнера и Фуко, автор не только исследует текущие условия для радикальной политической мысли и действий, но и предлагает новые формы политики в стремлении к автономной жизни. По мере того, как обнажается нигилизм и пустота политического и экономического порядка, постанархизм предлагает нам подлинный освободительный потенциал.

Целью данного учебного пособия является знакомство магистрантов и аспирантов, обучающихся по специальностям «политология» и «международные отношения», с основными течениями мировой политической мысли в эпоху позднего Модерна (Современности). Основное внимание уделяется онтологическим, эпистемологическим и методологическим основаниям анализа современных международных и внутриполитических процессов. Особенностью курса является сочетание изложения важнейших политических теорий через взгляды представителей наиболее влиятельных школ и течений политической мысли с обучением их практическому использованию в политическом анализе, а также интерпретации «знаковых» текстов. Для магистрантов и аспирантов, обучающихся по направлению «Международные отношения», а также для всех, кто интересуется различными аспектами международных отношений и мировой политикой и приступает к их изучению.

Люди странные? О да!А кто не согласен, пусть попробует объяснить что мы из себя представляем инопланетянам.

Основой этой книги является систематическая трактовка исторического перехода Запада от монархии к демократии. Ревизионистская по характеру, она описывает, почему монархия меньшее зло, чем демократия, но при этом находит недостатки в обоих. Ее методология аксиомативно-дедуктивная, она позволяет писателю выводить экономические и социологические теоремы, а затем применять их для интерпретации исторических событий. Неотразимая глава о временных предпочтениях объясняет процесс цивилизации как результат снижающихся ставок временного предпочтения и постройки структуры капитала, и объясняет, как взаимодействия между людьми могут снизить ставку временных предпочтений, проводя параллели с Рикардианским Законом об образовании связей. Сфокусировавшись на этом, автор интерпретирует разные исторические феномены, такие как рост уровня преступности, деградация стандартов морали и рост сверхгосударства.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.