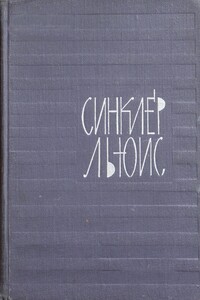Крик лебедя - [3]
— Поднимись к завхозу и скажи, чтобы телефон поставил, не то повешу его за яйца.
И вот их язык. И вот способ говорить с ними.
А теперь украли комнату. «По делом их узнаете их».
Инцидент не исчерпан, я связан словом, данным другу: не трогать вора, потому что демократы в масках способны на всё. Последняя книга друга моего «Преступленье без наказания». Ему виднее, где мы живём. Для пущей виртуальности обозначу двумя П того, кто взял наши 3 х 2, чтобы сдавать их как 30 х 20. ПП — постельничий президента. Поэтому тревога моего друга вполне понятна.
А как у нас с величием души? — спрашивает Слуцкий, как спрашивают о здоровье, но ответа не ждут. Слуцкий, однако, ждёт. И приходится собирать по крохам эту материю, чтобы воспринять чужое, совершенно из ряда вон выходящее великодушие.
У меня в руках был апокриф о неспящем Ученике. В Гефсиманскую ночь Иоанн не спал и был с Учителем, но виду не подавал.
Весьма знаменательное церковное гонение на апокрифическое творчество — книги «ложные» и «отречённые», вероисповедание индивидуальное и т. п. А то, что ереси часто идут впрок канону, гонителям невдомёк. С величием души здесь туго. Старик Пилат у Анатоля Франса не помнит, как распинали самозванца-царя иудейского и двух разбойников. Одного изо всех сил толпа могла спасти — спасла разбойника. Есть ли апокриф, отменяющий единодушие толпы чьим-то одиноким великодушием, я не знаю, и рассказ Ана-толя Франса предельно печален: событие Голгофы — событие, ничем не примечательное, не оставившее следа в памяти прокуратора Иудеи!
Мне кажется, всем мы, господа и граждане, проспали один эпизод Голгофы 1958-59. А лучше сказать — заспали. С ударением на первом слоге. Так во сне давит свинья своего поросёнка.
У Боратынского и Пушкина с величием души нет проблем. Все проблемы — у читателя.
Трудность читательская в том, что жизнь иногда совершенно переворачивает страстную пушкинскую мысль, и всё читается наоборот: благословен свет правды, он не угождает черни, истина, а не обман возвышает нас.
Ровно 50 лет назад покончил с собой, как утверждают словари, грузинский поэт Галактион Васильевич Табидзе. 17 марта 1959 года в ответ на предложенье — читай: на предписанье власти — заклеймить позором уже исключённого из Союза писателей Бориса Пастернака — Галактион выбросился с балкона четвёртого этажа тбилисской больницы. Это был бурный день гижи марти — сумасшедшего марта, когда спутаны все времена года, и в течение дня снегопад сменяется дождём, вьюга — солнечным затишьем, затишье — грозой с ливнем. Притом зацветает миндаль уже как результат, как исход этого хаоса. Такой день Галактионом описан, и не один. И, кажется, в самой поэтике остались его невероятные приметы во всей их яркости. В тот день явились к одру Галактиона уже знакомые ему двое мальчиков — посланцы двух ведомств — гэбэшного и писательского. Склонный к розыгрышу поэт расхваливал стиль документа, обоюдоведомственный, так сказать, но отправлял мальчиков назад с какими-то мелочными придирками. Так было дважды. Свою подпись Галактион мог оставить только под шедевром — кратким, сильным, исполненным патриотического гнева и презрения к врагу. Именно подписи первого поэта Грузии не хватало под этим текстом.
И вот, комсомольские ребята В. Семичастного, должно быть, отцы нынешних распорядителей жизни, стоят со своей телегой перед 67-летним, насквозь изработанным циррозным стариком. «Чучело Галактиона».
Сквозь слёзы — это у него всегда, говорил Булат — глядит он на мальчишек, поворачивается, открывает балконную дверь и переваливается грузным телом через перила.
Я умру как лебедь —
написано ещё в юности. Зарок исполнился.
Это могло быть и раньше. Например, в 39-м, когда увезли его жену, Ольгу Окуджава. Но в 59-м со всей полнотой сказался протест, глухо слышный в стихах. И одним молчаливым жестом выражено и покрыто всё.
— И тут он нас опередил! — вырвалось у прибежавшего в больницу Ираклия Абашидзе. — Я никогда не думал, что у человека столько крови!
В пору политического кретинизма, под которым кроется дьявольский расчёт, в пору общекавказской явной и скрытой войны, в позорном обиходе всматриваться в лица кавказской национальности, отыскивая в них злые намерения, — я хочу напомнить, только не знаю, кому — о крови Галктиона на булыжниках больничного двора. Её стало ещё больше, она свежа и жива. Ею искуплено московское малодушье. Самоубийство грузинского поэта — на деле убийство, а помимо всего, — творческий акт, ответ кровавой эпохе.
На каком-то собрании писателей какой-то критик сетовал на оскудение грузинской поэзии после Акакия, Ильи, после Важи Пшавела. Галактион спустился из зала и стал молча прохаживаться перед трибуной невольно замолчавшего критика. Потом вышел в боковую дверь.
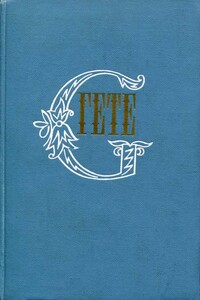
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
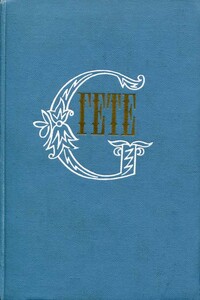
Статья дает объективную характеристику трех пейзажей Рейсдаля, но Гете преследовал этим сочинением не историческую и не академическую цель. Статья направлена против крайностей романтической живописи.

Критический отзыв на научно-фантастическую повесть «Шагни навстречу» молодого волгоградского фантаста Сергея Синякина.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.