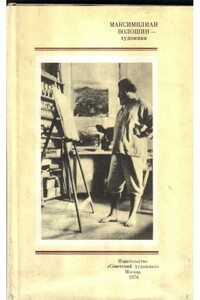Краткая история кураторства - [62]
А транспортировка была сложная?
Очень простая.
Работа находилась в какой-нибудь секретной мастерской?
Просто в небольшой комнате в Нью-Йорке. Тогда это была не настоящая мастерская, а просто комната в каком-то деловом центре.
Выходит, до того как вы представили работу публике, ее видело всего три-четыре человека.
Да, так и было. Конечно, сейчас — на расстоянии — все видится именно так, как мы видим это сегодня. А тогда мне просто казалось важным все это сделать. И я, конечно, прекрасно осознавала, что по условиям дарения — то есть условиям, которые через фонд «Кассандра» поставил Билл Копли, — все это должно было пройти без лишнего шума. Нужно было просто разместить работу в музее: еще вчера ее не было, а сегодня она уже есть. Именно так все и вышло. Вчера ее не было — а сегодня она появилась.
И фонд не хотел делать никакого открытия?
Нет.
Но вы подготовили этот замечательный выпуск журнала.
Это был выпуск музейного «Бюллетеня», посвященный Дюшану и Etant Donnes; работа над ним доставляла мне огромное удовольствие. Ничего сложного в этой истории не было. Это только так кажется, что сложно, а в действительности — совсем нет. Мы должны были просто перевезти работу из Нью-Йорка в Филадельфию и разместить ее в музее — вместе с Полом Матиссом. Вообще-то тогда мы немного изменили экспозицию в галерее. Там всегда выставлялось много дюшановских работ из коллекции Аренсбергов, но мы сгруппировали их вокруг «Большого стекла». Так что теперь это настоящая Галерея Дюшана, место паломничества для многих художников — и вскоре я познакомилась там и с Джаспером Джонсом, и с Джоном Кейджем, и, конечно же, с Мерсом Каннингемом. Для меня все они составляют какое-то невероятное трио, хотя Джаспер и моложе двух остальных. После того лета, когда состоялось «явление» Etant Donnés, в 1969 году, я уехала в Чикаго и два года работала с Джимом Спейером — и это было прекрасное время. Потом, в 1971 году, я вернулась в Филадельфию вместе со своим мужем; здесь еще не было такой должности, как куратор искусства XX века, но я стала именно им. В Филадельфии я провела десять очень насыщенных лет: помогала формировать коллекцию, готовила огромную нью-йоркскую ретроспективу Дюшана — вместе с Кинастоном Макшайном. Это было прекрасное время, потому что тогда я бывала и в Филадельфии, и в Нью-Йорке, и в Чикаго, и в музеях этих трех городов, по воле случая (хотя чистых случайностей не бывает), приобрела совершенно бесценный опыт.
Когда слушаешь вас, кажется, что все было очень просто, — но ведь по тем временам вы работали с взрывоопасным материалом. Так как же с таким материалом работают музеи?
Ну, я не знаю. Взрывоопасный материал или нет — это за висит только от глаза самого зрителя, потому что «взрыв», если перефразировать самого Дюшана, может произойти только там; и я думаю, что эта работа, скорее, была для зрителей своего рода сюрпризом — в особенности для тех, кто много лет работал с Дюшаном или размышлял о его творчестве — будьто Робер Лебель, Артуро Шварц или другие замечательные ученые. И, я думаю, правильно, что работа попала именно к нам: это великолепный музей с обширным собранием, в котором представлено искусство самых разных эпох и самого разного рода; у нас находится фантастическая коллекция модернизма, собранная Аренсбергами при участии самого Дюшана; в нее входят работы [Константина] Бранкузи и много чего еще — например, дюшановская «Обнаженная, спускающаяся по лестнице» [1912] (если уж говорить о «взрывоопасном») или «Принцесса X» Бранкузи [1915], которая по тем временам считалась вызывающе сексуальной. И я не считаю, что появление в нашем музее Etant Donnés как бы подводило под творчеством Дюшана черту: нам с Уолтером Хоппсом его творчество скорее представлялось своего рода пазлом, который нужно собрать; в его работах есть множество перекличек, и в них можно выделить несчетное множество тем и обнаружить несчетное множество связей. Я всегда с опаской относилась к категоризации — мол, Дюшана интересует только то или только это, — потому что стоит вам это произнести, как сразу же появляется что-то новое. Мне кажется, я не считала этот материал «взрывоопасным»; эта работа Дюшана казалась мне действительно важной и восхитительной, и я видела в ней бесчисленные отсылки к другим его произведениям и к произведениям многих других художников тоже — например, [Эда] Кинхольца. И поэтому мне, опять же, было так интересно беседовать с Уолтером Хоппсом — ведь он был очень дружен и много общался с такими художниками, как Кинхольц…
[Роберт] Раушенберг…
Разумеется. Раушенберг, Кинхольц, Джонс. Представьте себе девушку лет двадцати, которая невероятно увлечена искусством вообще и художниками в частности и которой предоставляется такая возможность, которая представилась мне: работать, думать, писать, помогать каким-то вещам состояться — а потом все это видят люди; ну а еще потом жизнь продолжает идти своим чередом… В общем, тогда мне все виделось совсем нетак, как это легко можно представить себе сегодня.
А как бы вы определили роль куратора? Джон Кейдж, например, говорил, что в кураторской работе должна быть «полезность»; а когда я беседовал с Уолтером Хоппсом, он процитировал мне Дюшана и сказал, что «куратор не должен препятствовать»; а Феликс Фенеон сравнивал куратора со своего рода пешеходным мостом [une passereile]. А что бы сказали вы?
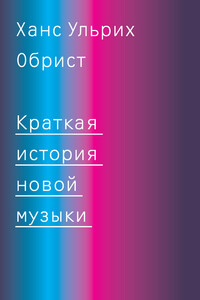
Данная книга, как и ее предшественница с созвучным названием («Краткая история кураторства»), составлена из устных рассказов. Все интервью брал ее автор, Ханс Ульрих Обрист, иногда совместно с Филиппом Паррено. В центре бесед – важнейшие (технологические и интеллектуальные) изобретения экспериментальной авангардной музыки XX века, ее связь с другими видами искусства и наукой, соотношение звука и пространства, звука и времени. Среди собеседников Обриста – Кархайнц Штокхаузен и Терри Райли, Брайан Ино и Янис Ксенакис, Пьер Булез и Каэтану Велозу.

Он был всемирно признанным чудаком – в полном соответствии с его целью будоражить и эпатировать, возмущать и восхищать публику. Создавая свои многочисленные картины, он играл со зрителем, предлагая разгадывать символы или находить изображения, возникающие из соединения разобщенных фигур. Он считал, что «в наше время, когда повсеместно торжествует посредственность, все значительное, все настоящее должно плыть или в стороне, или против течения». Имя ему – Сальвадор Дали.

Настоящее издание посвящено малоизученной теме – истории Строгановского Императорского художественно-промышленного училища в период с 1896 по 1917 г. и его последнему директору – академику Н.В. Глобе, эмигрировавшему из советской России в 1925 г. В сборник вошли статьи отечественных и зарубежных исследователей, рассматривающие личность Н. Глобы в широком контексте художественной жизни предреволюционной и послереволюционной России, а также русской эмиграции. Большинство материалов, архивных документов и фактов представлено и проанализировано впервые.Для искусствоведов, художников, преподавателей и историков отечественной культуры, для широкого круга читателей.
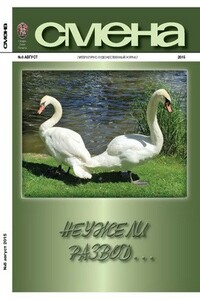
Марокканский цикл — одна из самых ярких страниц в творчестве замечательной русской художницы Зинаиды Серебряковой. Буйство красок, радость бытия, пряные запахи, растворенные в жарком африканском воздухе. И героини этой восточной сказки — прекрасные, полные неги и покоя «ню»…

Книга посвящена замечательному художнику Константину Сомову (1869–1939). В начале XX века он входил в объединение «Мир искусства», провозгласившего приоритет эстетического начала, и являлся одним из самых ярких выразителей его коллективной стилистики, а после революции продолжал активно работать уже в эмиграции. Книга о нем, с одной стороны, не нарушает традиций распространенного жанра «жизнь в искусстве», с другой же, само искусство представлено здесь в качестве своеобразного психоаналитического инструмента, позволяющего реконструировать личность автора.
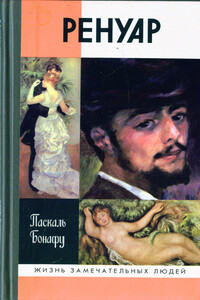
За шесть десятилетий творческой жизни Пьер Огюст Ренуар, один из родоначальников импрессионизма, создал около шести тысяч произведений — по сотне в год, при этом его картины безошибочно узнаваемы по исходящему от них ощущению счастья и гармонии. Писатель Октав Мирбо назвал Ренуара единственным великим художником, не написавшим ни одной печальной картины. Его полотна отразили ту радость, которую испытывал он сам при их создании. Его не привлекали героические и трагические сюжеты, он любил людей, свет и природу, писал танцующих и веселящихся горожан и селян, красивые пейзажи и цветы, очаровательных детей и молодых, полных жизни женщин.Соотечественник Ренуара историк искусств Паскаль Бонафу рассказывает о его непростых отношениях с коллегами, продавцами картин и чиновниками, о его живописных приемах и цветовых предпочтениях, раскрывает секрет, почему художник не считал себя гением и как ухитрялся в старости, почти не владея руками и будучи прикован к инвалидному креслу, писать картины на пленэре и создавать скульптуры.