Краков - [6]
Морской пейзаж с кораблем. Деталь полиптиха «Ян, раздающий милостыню». 1504 Национальный музей в Кракове.
Но обратимся наконец к самим зданиям. Оба грандиозных костела – и доминиканский, и францисканский – это складывавшиеся веками организмы, сложная архитектоника которых развивалась одновременно с эволюцией стилей. Первый из них расположился по левой, восточной стороне Гродской улицы, на Доминиканской площади. Здесь когда-то находился первый крупный городской рынок – возле приходского храма св. Троицы. В 1222 году краковский епископ Иво Одровонж переносит приход в Мариацкий костел на Главном Рынке, а бывший приходский костел отдает приглашенным из Болоньи монахам ордена доминиканцев.
Построенные на его месте костел и монастырь доминиканцев были сооружены в первой четверти XIII века, но в последующие века неоднократно подвергались переделкам и расширению. От первоначального сооружения сохранились элементы романского костела, использованные при строительстве не сохранившейся трапезной в северной части внутренней галереи монастыря. Она была возведена в 1225 году из известняковой шашки над типично романским двухнефным подвалом из кирпича, служившим монастырю для хозяйственных нужд. Также из кирпича, распространением которого в краковской архитектуре Польша обязана доминиканцам, сооружена наиболее древняя часть костела – алтарная (2-я половина XIII в.). Параллельное использование в одном сооружении романских и готических форм и строительных материалов (камень и кирпич) как нельзя лучше демонстрирует органический процесс взаимопроникновения двух стилей в ту переходную эпоху.
Самый костел был выстроен в XIII веке и расширен – в XIV. Вход в него ведет через неоготический притвор, закрывающий прекрасный стрельчатый портал конца XIV века с рельефными изображениями людей, птиц и животных среди виноградных лоз.
Мадонна из Кружловой. Деталь. После 1400 г. Национальный музей в Кракове
Первоначальный трехнефный храм одинаковой для всех нефов высоты был перестроен на рубеже XIV-XV веков: корпус зального типа был переделан в базиликальный, а пресвитерий надстроен. От пожара 1850 года сильно пострадал корпус здания и интерьер, сохранились лишь часовни и вмурованные в стены надгробия.
Часовен при костеле было построено несколько, и каждая из них чем-то примечательна: часовня св. Яцека (середина XVI века) с гробницей работы выдающегося итальянского скульптора Бальтазара Фонтаны и картинами придворного живописца Зигмунта III Вазы Томмазо Долабеллы; часовня Любомирских (1616) с позолоченной и расписной чашей купола (в интерьере); часовня Збараских (1630) с типично барочным интерьером и надгробиями; часовня «Мадонны с четками» (конец XVII века); наконец, часовня Мышковских (1614) – один из прекраснейших памятников архитектуры в Кракове.
Часовня Мышковских, возведенная при южном нефе костела, удивительным образом сочетает элементы зрелого Ренессанса с чертами северного маньеризма. Она явно выказывает определенную близость к Зигмунтовской часовне кафедрального собора на Вавеле, что отнюдь не случайно. Часовня была построена на средства коронного маршала Зигмунта Мышковского – следовательно, это был подлинный памятник родового, магнатского культа, и не удивительно, что в ней ощутимы явные попытки превзойти королевскую часовню.
Тяжелый руст стены, массивность которой подчеркнута круглым картушем в центре, высокий барабан с люнетами и венчающий его ребристый купол, покрытый каменной чешуей, производят монументальное впечатление, хотя в контрастах больших объемов и дробности декора уже заложена экспрессивная нервозность маньеризма.
Внутренняя галерея монастыря францисканцев. Первая половина XV в.
Интерьер часовни Мышковских строится на контрастах: черный мрамор нижней части облицовки – и беловатый камень верхней части; темно-красные ниши, желтоватые колонны – и светлый, ясный купол. Эффект контраста еще более подчеркивает противопоставление гладких стен в нижней части богатой пластике верхней части, особенно скульптур в кессонах купола. Под ними, над карнизом, помещено шестнадцать бюстов членов рода Мышковских в жупанах, доспехах, делиях (плащах, подбитых мехом) – их вереница создает выразительную галерею так называемых «сарматских портретов», типичных для Польши XVII века.
Из надгробий, помещенных в пресвитерии, наибольший интерес представляет бронзовая надгробная плита Каллимаха, ученого-гуманиста XVI века. Дерзкий по тем временам замысел – ученый изображен в непринужденной позе за работой в своем рабочем кабинете, – точность деталей и виртуозное мастерство исполнения говорят о почерке большого художника. Действительно, автором модели надгробия, как подтверждают источники, был Вит Ствош – создатель уникального алтаря в Мариацком костеле, а плита была отлита в знаменитой литейне нюрнбергского мастера Петра Фишера в XV веке. К слову сказать, и сама личность Каллимаха не относилась к числу ординарных. Под этим греческим псевдонимом скрывался Филипп Буонакорси из Сан-Джеминьяно. Спасаясь от преследования папы Павла II, ученый вынужден был бежать из Рима в Турцию. Оттуда он перебрался в Польшу и здесь, пользуясь покровительством епископа Гжегожа из Санока, был представлен королю Казимежу Ягеллону. Вскоре Каллимах стал воспитателем королевских сыновей. Своими выступлениями против действий духовенства и шляхты Каллимах вызвал такую ненависть, что после смерти короля вынужден был снова спасаться бегством, на сей раз во Львов, к своему другу епископу Гжегожу. Лишь после вступления на престол воспитанника Каллимаха Яна Ольбрахта он смог вернуться в Краков. Теперь он стал не только советчиком королю в государственных делах, но и его верным другом; не раз король и Каллимах в плащах с капюшонами, украдкой исчезали из вавельского замка, чтобы вместе отправиться в город на поиски ночных приключений. Однако подобное «легкомыслие» не мешало Каллимаху успешно заниматься научной и писательской деятельностью, которая оказала значительное влияние на формирование польской литературы и политической мысли XV века. Достаточно сказать, что кроме поэтических и исторических сочинений им написаны так называемые «Каллимаховы советы», в которых заключена программа управления государством, намного опережающая аналогичный трактат Макиавелли «Государь». В числе прочих советов Каллимах предложил прежде всего поддерживать процветание городов как главного источника могущества государства, улучшить положение крестьянства, ликвидировать полную зависимость от власти римского папы и т. д. Каллимах – фигура безусловно незаурядная, но в то же время типичная для польского общества той поры, находившегося под огромным влиянием гуманистической культуры Ренессанса.
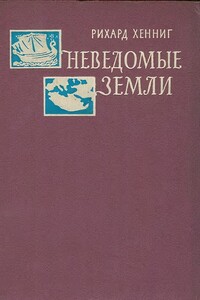
Четырехтомный труд немецкого географа Рихарда Хеннига посвящен открытиям и исследованиям неведомых земель, совершенным мореплавателями и путешественниками доколумбова периода. Своеобразие книги заключается в том, что в ней собраны все дошедшие до нас литературные источники, свидетельствующие о подвигах первооткрывателей, и наряду с этим дается критический анализ как самих документов, так и различных гипотез, выдвинутых крупнейшими специалистами по истории географии.

Книга представляет собой дневник бортпроводницы международных авиалиний, начиная с первых дней обучения и заканчивая последними полётами. Вы побываете в суровом Магадане, знойном Бангкоке, на сказочном острове Бали и во многих других местах. Вместе с автором Вы сможете пережить все трудности и радости лётной жизни, узнать многое о самолётах, о внутренней жизни аэропорта, о настоящей дружбе, испытаниях, поисках себя и новых высотах.
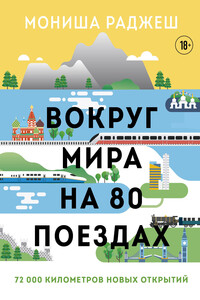
Железнодорожное путешествие – это всегда бесконечная суета, крики, грязь и хаос. Есть ли в таких поездках место для удивительных приключений и открытий? Несмотря на непонимание родных и друзей, Мониша Раджеш, британская журналистка, всегда мечтала совершить кругосветное путешествие на поезде. Она тщательно проработала свой маршрут и, собрав все самое необходимое, вместе со своим женихом отправилась в незабываемое путешествие. Вместе с героями книги из окна поезда вы увидите необъятные просторы России, Монголии, Северной Кореи, Канады, Казахстана и многих других стран.
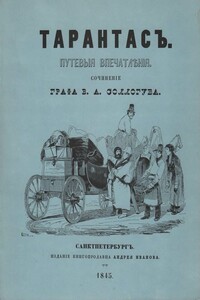
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
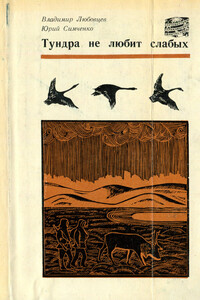
Далеко за Полярным кругом, на полуострове Таймыр, живут самые северные в мире оленеводы — нганасаны. Этот удивительный народ сохранил во многом свои древние обычаи. В самом деле, знаете ли вы, что возраст женатого мужчины у нганасан исчисляется по возрасту его жены; что по вышивкам на одежде можно определить, считается ли ее хозяин полноправным охотником, женат ли он, есть ли у него дети. В коротких новеллах читатель познакомится и с работой полярников, летчиков, геодезистов, горняков — всех тех мужественных людей, которые покоряют суровый Север. [Адаптировано для AlReader].

Имя писателя, журналиста Л. В. Почивалова известно читателям по его выступлениям в прессе, рассказам, повестям, а также по роману «Сезон тропических дождей». Действие этого романа происходит на борту советского научно-исследовательского судна и на землях, к которым оно пристает на своем пути. Рейс судна проходит на фоне всеобщей мировой тревоги перед угрозой войны, эту тревогу отражают и события, происходящие во время рейса. Герои романа — советские ученые, моряки, а также их иностранные коллеги — американцы, входящие в состав экспедиции.