Коро-коро Сделано в Хиппонии - [5]
Нет, конечно, сначала команда побунтовала, для форсу-то. С русским размахом, эффектно так: «Не найдете убийцу — мы все сходим на берег и самолетом летим домой!» Но уже к вечеру, выпив за упокой землячка, вспомнили, кормильцы, за чем именно в Японию-то притащились. А потому наутро отдали концы — и повезли в родной Корсаков свои полуржавые «тойоты», «мазды» и «лендкрузеры». С ненайденным, заметим, преступником на борту.
Глуп человек. Глуп, алчен и слаб. Это ж рехнуться можно: с убийцей на борту он плавать согласен, а с покойником — ни в какую! Десять безумных дней мы честно пытались всучить труп двадцатипятилетнего сахалинца заходившим в Ниигату российским судам. Одной рукой упрашивали капитанов, а другой — бомбили радиограммами все дальневосточные пароходства от Владивостока до Камчатки. Бесполезно. При слове «покойник» любой мастер понижал голос до интимного бормотанья, вдавливал голову в плечи и прикрывал поплотнее дверь капитанской каюты — чтобы даже слух об этом на борт не просочился.
Разговоры эти не кончались ничем. Отмазка у капитанов была железной. Для того чтобы мастер взял на борт незапланированный «груз 200», нужна особая санкция пароходства. С подтверждением, что страховка такого груза отвечает всем техническим, санитарным и черт знает каким еще требованиям. Эта санкция выползает из чрева российской конторы не раньше чем через три дня с момента запроса. А обычное русское судно дольше двух суток в японском порту не стоит. Замкнутый круг…
И лишь неделю спустя, когда очередная радиограмма в самых жестких формулировках легла на стол главы Сахалинского пароходства, Система крякнула и разродилась-таки указанием: завернуть на Ниигату случайный корсаковский лесовоз, плюхавший мимо нас куда-то на Хоккайдо, с единственной целью: произвести «забор трупа» к родным пенатам.
Посудина прибыла мелкая, старая и ржавая. Никакой проверки на техбезопасность она бы не выдержала. Кастрюль в настолько аховом состоянии такой серьезный порт, как Ниигата, уже лет пять как не принимает. Ладно, на Хоккайдо еще можно — там и требования пониже, и вообще, что с Хоккайдо взять, индейские нравы, мелкий бизнес прибрежного типа, да и с сахалинцами у них уже пару веков свои отношения. Но здесь?
И тем не менее несмотря ни на что, — вот она, сила трупа! — красавец Японского моря Западный Порт Ниигата, крепко зажмурившись от стыда, шаркнул ножкой, распахнул свою образцовую бухту, и дырявый таз с облупившимися буквами «Герой-чекист Николай Смирных» 69-го года постройки пришвартовался-таки к Лесному Терминалу Номер Четыре.
По любому международному регистру, команда такого корыта не должна превышать двадцати трех человек. На «Чекисте» притащилось сорок две небритые морды, не считая капитана, плюс одно лицо женского полу — буфетчица Люся, которую все почему-то называли «стюардессой».
Капитан же, напротив, оказался вполне гладко выбрит, в меру трезв — и как-то уж очень по-деловому сердит. На самом кончике его длинного носа зачем-то громоздились очки, смотреть в которые он старательно избегал как при чтении документов, так и общаясь со мной.
— Значицца так, блин! — строгим голосом начал мастер, едва я поднялся к нему в каюту. Интонацией он сильно смахивал на похмельного профессора Бингера, который преподавал у нас в вузе научный коммунизм, то и дело обзывая студентов «масонскими шпионами» и «пакистанскими лазутчиками». — Оформляем «груз 200»! А это что значит? Правильно, по законам военного времени. Итак, блин! Ваш порт предоставляет нам тело в запечатанном цинковом гробу. Чтобы, значит, полная герметичность — и никаких там, понимаешь…
— Минуточку! — вклинился я. — Здесь это называется «высокотехнологичный саркофаг». Кто платить будет?
— Высоко… чего?! — поперхнулся мастер. — У вас тут что, обычных цинковых не бывает?
— Ну что вы? — пожал плечами я. — «У нас тут» только дощатые, тоненькие. Чтобы сжигать удобней было.
— Сжигать?.. — тоскливым эхом отозвался капитан.
— Ага, — ответил я без единой эмоции в голосе. — Все-японская кремация. Закон семьдесят лохматого года[1]… А если вам лично металлоконтейнер требуется — это уже спецзаказ. Делают два-три дня и берут как за пять деревянных. Плюс еще трое суток простоя и сварщикам за герметизацию. Так на чей счет оформлять будем?
— Ну… Лично мне уже давно ничего не требуется, — мрачно усмехнулся мастер куда-то вбок и задумался на полминуты.
Я терпеливо ждал. Труп на складе и мой шеф в конторе, соответственно, тоже.
— Ч-черт! — вздохнул наконец капитан. — Ладно… Щас, погодите!
Подойдя к двери каюты, он открыл ее, высунул голову в щель и крикнул:
— Колюня! Арсен у себя?.. К капитану!
— Кто такой? — поинтересовался я, пока невидимый Колюня выполнял распоряжение.
— Владелец, — коротко ответил кэп, стянул-таки с носа очки и помассировал пальцами веки. Я решил не уточнять, чем владеет Арсен. В мои прямые обязанности это не входит, а там посмотрим.
— Михалыч! — просунулась в дверь рыжая испуганная голова. — Арсен щас у Люськи. Сказал, шоб ты типа сам зашел…
Мастер скользнул по мне глазами, с неловкой усмешкой матюгнулся, бросил «обождите» и вышел.
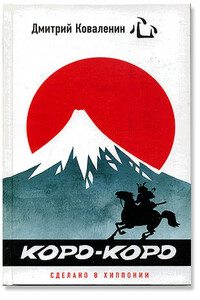
В биографии писателя и переводчика Дмитрия Викторовича Коваленина эти девять лет его жизни описываются одним предложением: «С 1991 года Коваленин работал в японской компании RINKO: до 2000 года работал судовым агентом в японском порту Ниигата.» Биоповесть «Сила трупа» расскажет читателю, как жил и чем занимался русский филолог-лингвист Коваленин в Японии.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
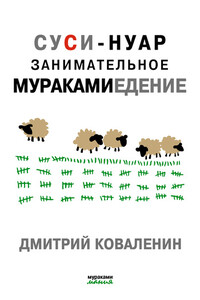
– Как вы сами называете жанр, в котором пишете?– Я в шутку называю это «суси-нуар». (Из разговоров Харуки Мураками и Дмитрия Коваленина.)В своей книге переводчик и литературовед Дмитрий Коваленин приглашает читателей в путешествие сквозь «миры Харуки Мураками». «Суси-нуар» – захватывающее литературное приключение, лирическая экспедиция по колодцам и тоннелям классических романов популярного японского прозаика.В книге публикуются материалы о жизни и творчестве писателя и уникальные фотографии.Предисловие Макса Фрая.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.