Коричные лавки. Санатория под клепсидрой - [70]
От мира легкодумной этой беспечности отец все больше отдалялся, уходя в строгий устав своего ордена. Потрясенный развязностью, правящей бал вокруг, он замыкался в одиноком служении высокому идеалу. Никогда рука его не попустительствовала, никогда не разрешал он себе отступления от правил, удобного верхоглядства.
Такое могли себе позволить Баланда и К° или иные прочие дилетанты бранжи, чуждые стремлению к безупречности и аскезе высокого мастерства. Отец с досадой наблюдал упадок отрасли. Кто из нынешней генерации мануфактурных купцов помнил еще добрые традиции давнего искусства, кто знал, к примеру, что штабель суконных свертков, уложенный на полки шкафа по правилам купеческой науки, звучит под проехавшим сверху вниз пальцем, как клавишная гамма? Кому из нынешних известны окончательные тонкости стиля в обмене нотами, меморандумами и письмами? Кто помнит прелести купеческой дипломатии, дипломатии доброй старой школы, весь напряженный ход переговоров — от жесткой неуступчивости при появлении полномочного министра заграничной фирмы, от замкнутой прохладцы, через осторожное оттаивание под влиянием неустанных стараний и усилий дипломата, и до совместного ужина с вином, поданного прямо на бумагах рабочего стола, в приподнятой обстановке, со щипками ягодиц прислуживающей Адели, в атмосфере пряного свободного разговора, как оно заведено меж мужчинами, знающими, чем они обязаны мгновению и обстоятельствам, — и завершаемого обоюдно выгодной сделкой?
В тиши утренних этих часов, когда дозревал зной, отец мой не терял надежды найти удачный и вдохновенный поворот, необходимый для завершения письма господам Христиану Сайпелю и Сыновьям, механические прядильни и ткальни. Это имела быть колкая отповедь необоснованным претензиям сих господ, реплика, оборванная в решающий момент, когда стиль письма достигает убедительного и остроумного завершения, и получается как бы короткое замыкание, ощущаемое легким внутренним содроганьем, после чего письмо может лишь опасть фразою, выполненной с широтой и элегантностью, завершающей и окончательной. Отец чувствовал тон желанного поворота, который уже несколько дней не давался — до поры неуловимый, он был буквально на кончике пера. Не хватало лишь мига доброго настроения, момента счастливого восторга, чтобы штурмом взять препятствие, в которое отец всякий раз утыкался. Опять и опять брал он чистый лист, чтобы с нового разгону одолеть заминку, трунившую над его тщанием.
Меж тем лавка постепенно заполнялась приказчиками. Они являлись красные от раннего зноя, далеко обходя конторку отца, на которого, имея нечистую совесть, с опаской поглядывали.
Средоточие пороков и слабостей, они чувствовали груз его молчаливого неодобрения, которому не могли ничего противопоставить. Ничем невозможно было умолить поглощенного своими заботами шефа, никаким рвением было не ублажить его, затаившегося скорпионом за конторкой, над которой он язвительно поблескивал очками, шурша, точно мышь, бумагой. Взвинченность его возрастала, безотчетная ярость копилась по мере того, как набирало силу солнце. Прямоугольник ослепительности горел на полу. Металлические и блистающие полевые мухи пересекали молниями вход в лавку, замирали на мгновение на дверных досках дутыми из металлического стекла стеклянными шариками, выдохнутыми из горячей трубочки солнца на стеклодувной фабрике дня пламенного, замирали с разложенными крылышками, исполненные полета и проворства, и менялись местами в бешеных зигзагах. В ярком прямоугольнике дверей сомлевали в сиянии далекие липы городского парка, отдаленная колоколенка мерцала и казалась близкой в прозрачном и дрожавшем воздухе, точно в линзе подзорной трубы. Жестяные крыши горели. Над миром повис огромный золотой пузырь зноя.
Раздражение отца росло. Изнуренный диареей, болезненно съежившись, он беспомощно озирался. Привкус во рту его был горше полыни.
Зной усиливался, усугублял бешенство мух, искрил поблескивающими точками на их металлических туловах. Прямоугольник света добирался до конторки, и бумаги горели, как Апокалипсис. Глаза, полные преизбытком света, уже не могли удержать его белой монолитности. Сквозь толстые хроматические стекла отец видит все предметы, окаймленные пурпуром, в фиолетово-зеленых ободках, и впадает в отчаяние от цветного этого взрыва, от анархии красок, световыми оргиями безумствующей над миром. Руки его дрожат. Нёбо горько и сухо, как перед припадком. В щелках морщин притаившиеся глаза внимательно следят за развитием событий в лавке.
Когда в полуденный час отец, уже на грани помешательства, беспомощный от зноя, дрожащий от беспричинного возбуждения, ретировался в верхние комнаты и потолки то тут, то там скрипели от его потаенного приседания, в лавке наступала минута паузы и расслабления — наставало время полуденной сиесты.
Приказчики резвились на штуках материи, разбивали на полках суконные шатры, устраивали качели из драпировок. Они разматывали глухие свитки, пуская на свободу пушистую, стократ свернутую столетнюю тьму. Слежавшийся за годы фетровый мрак, высвободившись, наполнял подпотолочные пространства ароматом иных времен, запахом дней ушедших, старательно уложенных бесчисленными слоями в давние прохладные осени. Слепые моли высыпа́ли в помрачневший воздух, пушинки пера и шерсти кружили по лавке вместе с этим высевом потемок, и запах аппретуры, глубокий и осенний, заполнял темное это становище сукон и бархатов. Разбив среди него бивуак, приказчики разохочивались на проделки и шутки. Давши дружкам плотно — до самых ушей — закатать себя в темное прохладное сукно, они лежали в ряд, блаженно неподвижные под штабелями материй, живые штуки сукна, суконные мумии, таращившие глаза в притворном ужасе по поводу своей неподвижности. Еще они давали качать себя и подкидывать до самого потолка на огромных разложенных скатертях сукна. Глухой плеск этих полотнищ и порывы расколыхавшегося воздуха приводили их в бешеный восторг. Казалось, целая лавка бросилась в полет, вдохновенные сукна вздымались, приказчики взлетали с развевающимися полами, точь-в-точь на миг вознесенные пророки. Мать глядела на эти забавы сквозь пальцы, непростительные выходки оправдывались в ее глазах расслаблением, какое приносила сиеста.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
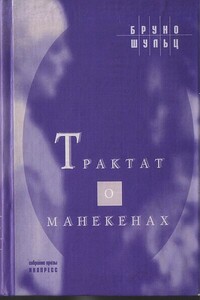
Бруно Шульц — выдающийся польский писатель, классик литературы XX века, погибший во время Второй мировой войны, предстает в «Трактате о манекенах» блистательным стилистом, новатором, тонким психологом, проникновенным созерцателем и глубоким философом.Интимный мир человека, увиденный писателем, насыщенный переживаниями прелести бытия и ревностью по уходящему времени, преображается Бруно Шульцем в чудесный космос, наделяется вневременными координатами и светозарной силой.Книга составлена и переведена Леонидом Цывьяном, известным переводчиком, награжденным орденом «За заслуги перед Польской культурой».В «Трактате о манекенах» впервые представлена вся художественная проза писателя.

Польская писательница. Дочь богатого помещика. Воспитывалась в Варшавском пансионе (1852–1857). Печаталась с 1866 г. Ранние романы и повести Ожешко («Пан Граба», 1869; «Марта», 1873, и др.) посвящены борьбе женщин за человеческое достоинство.В двухтомник вошли романы «Над Неманом», «Миер Эзофович» (первый том); повести «Ведьма», «Хам», «Bene nati», рассказы «В голодный год», «Четырнадцатая часть», «Дай цветочек!», «Эхо», «Прерванная идиллия» (второй том).

Книга представляет российскому читателю одного из крупнейших прозаиков современной Испании, писавшего на галисийском и испанском языках. В творчестве этого самобытного автора, предшественника «магического реализма», вымысел и фантазия, навеянные фольклором Галисии, сочетаются с интересом к современной действительности страны.Художник Е. Шешенин.

Автобиографический роман, который критики единодушно сравнивают с "Серебряным голубем" Андрея Белого. Роман-хроника? Роман-сказка? Роман — предвестие магического реализма? Все просто: растет мальчик, и вполне повседневные события жизни облекаются его богатым воображением в сказочную форму. Обычные истории становятся странными, детские приключения приобретают истинно легендарный размах — и вкус юмора снова и снова довлеет над сказочным антуражем увлекательного романа.
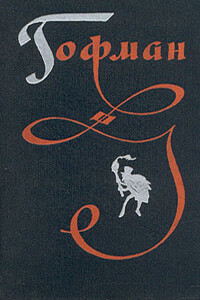
Крупнейший представитель немецкого романтизма XVIII - начала XIX века, Э.Т.А. Гофман внес значительный вклад в искусство. Композитор, дирижер, писатель, он прославился как автор произведений, в которых нашли яркое воплощение созданные им романтические образы, оказавшие влияние на творчество композиторов-романтиков, в частности Р. Шумана. Как известно, писатель страдал от тяжелого недуга, паралича обеих ног. Новелла "Угловое окно" глубоко автобиографична — в ней рассказывается о молодом человеке, также лишившемся возможности передвигаться и вынужденного наблюдать жизнь через это самое угловое окно...
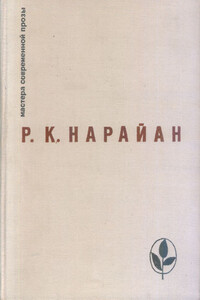
Рассказы Нарайана поражают широтой охвата, легкостью, с которой писатель переходит от одной интонации к другой. Самые различные чувства — смех и мягкая ирония, сдержанный гнев и грусть о незадавшихся судьбах своих героев — звучат в авторском голосе, придавая ему глубоко индивидуальный характер.

«Ботус Окцитанус, или восьмиглазый скорпион» [«Bothus Occitanus eller den otteǿjede skorpion» (1953)] — это остросатирический роман о социальной несправедливости, лицемерии общественной морали, бюрократизме и коррумпированности государственной машины. И о среднестатистическом гражданине, который не умеет и не желает ни замечать все эти противоречия, ни критически мыслить, ни протестовать — до тех самых пор, пока ему самому не придется непосредственно столкнуться с произволом властей.