Консул де Рубинчик, виконт - [4]
Вот эти и многие другие самые разнообразные вещи мог бы узнать молодой человек, прогуливаясь в тот день по Соборной площади и для этого, скорее всего, там и прогуливался, день был к тому же погожий, начало лета. Но ему не повезло. Поток людей, направлявшихся к храму, подхватил и увлек его за собой так внезапно и с такой стремительностью, что не успел он и опомниться, как оказался у самой соборной паперти и даже уже ступил на паперть, в собор же не вошел только потому, что здесь, у входа в него, образовалась пробка, возникла некоторая сумятица. И в это время кто-то вдруг неистово закричал; «Абызянка!…»
Голос принадлежал ребенку. В нем было все: радость, удивление, быть может, даже испуг, или скорее всего, все эти чувства вместе, но радость превалировала – искренняя радость ребенка от неожиданного узнавания.
– Тату, – кричал ребенок, – то ж вы подивиться, тэту, та ось там, там! Абызянка!…
Как все это произошло? Да, наверное, тоже самым неожиданным образом как для Рубинчика, так и для его обезьяны которую он поначалу не решался обнаружить, прогуливаясь по площади и демонстрируя себя в своем новом консульском качестве, а потом зверьку это надоело или его, может быть, напутало большое скопление народа, шум. В одно мгновение в самый неподходящий момент животное оказалось на голове у хозяина, сбив с него при этом и замечательную треугольную шляпу и пенсне, и теперь; похожее на обиженного ребенка, восседало на ней верхом, пугливо озираясь по сторонам и цепко держась за оба хозяиновых уха.
Но и это еще не все. В толпе началась толчея, крики. Люди становились на цыпочки, вытягивали шеи и поворачивали головы, пытаясь лучше разглядеть, что происходит. На Рубинчика устремились гневные взгляды прихожан, особенно прихожанок. – «С обезьяной – в церковь?! – кричали в толпе. – Совсем совесть потеряли эти иностранцы проклятые, ни во что не верят!…».
Несчастный Рубинчик, потерявший пенсне и шляпу, а заодно и большую часть своей представительности, беспомощно пялил круглые глаза да похлопывал пшеничными ресницами, ничего в этой обстановке он, естественно пред. принять не мог. Нет, он поначалу пытался что-то объяснить: что он – де – консул и что такова традиция, закон; voyez-vous, donc; понимая, что лучше, безопаснее, во всяком случае, делать это на языке государства, которое он представляет, мучительно выковыривал из памяти немногие оставшиеся там от гимназического курса французские слова – «муа», «нон», «жамэ», «консюль», «ордонанс» «обэзьян, черт бы ее побрал», «вуаси же дуа тужур носить это омерзительное животное сюр ля плечо…». Но это не помогало. Его все более явственно пытались оттеснить от входа в собор, а кто-то уже и подталкивал кулаком в бок: кто-то стаскивал с него обезьяну, схватив за хвост.
И тогда произошло то, что при этом неминуемо и должно было произойти: насмерть перепуганный зверек издал вдруг дикий крик, крик джунглей, а в следующее мгновение на затылке человека, на том месте, где помещался красный мозолистый обезьяний зад, обозначилось мерзкого вида пятно, не оставлявшее сомнений в своем происхождении. Струйками растекалось оно по шее человека и по небесно-голубому его мундиру, от высокого воротника с листьями из накладного золота до таких же листьев на груди ч от груди до конца рукавов с бархатными обшлагами и золотыми пуговицами…
А в нескольких шагах от несостоявшегося почетного консула и его обезьяны, от ревущей, стонущей, исходящей хохотом толпы, корчась от смеха, но беззвучного, потому что смеяться громко не было уже сил, давясь им и утирая слезы, эту сцену наблюдали сам негодяй Кока и несколько его приятелей. Те, кто помогал ему в его лихой проделке – талантливые молодые художники и типографы, сработавшие великолепную, естественно в одном экземпляре, грамоту с изображением монтемакакских сановников и королей и с дюжиной обезьян при них; лучшие костюмеры из городского (оперного) театра, рисовавшие эскизы мундира и даже будущих к нему орденов – Ордена Хвоста второй степени и Ордена Обезьяньего Зада с Бантом – и еще художники, еще поэты, все эти очаровательные выдумщики и баламуты с итальянскими, еврейскими, греческими и бог знает, еще какими фамилиями – цвет Одессы, или, точнее, люди. которые, могли бы стать ее цветом и ее гордостью, если бы все они уже буквально через несколько лет один за другим не исчезли в водовороте войн и революций…
Все, впрочем, кроме Коки, который, уехав в начале девятнадцатого года в Грецию, лет десять спустя объявился там на острове Родос, где создал большой обезьяний питомник, чуть ли не лучшее такое заведение в мире.
А рассказал мне эту удивительную историю бывший директор нашего, одесского, зоопарка, а до этого хозяин зверинца, огромный и седовласый, похожий на некоего языческого бога, старик-норвежец по фамилии Бейзарт, любимец одесских пацанов. Он рассказывал, что переписывается с Кокой. Профессор Фанариоти – ему, как и Бейзарту, должно было быть в то время тоже уже не менее девяноста лет – с нежностью вспоминает об Одессе, городе своей молодости, о своих добрых друзьях и своей первой маленькой обезьянке Мими, которую он вынужден был отдать глупому Рубинчику.
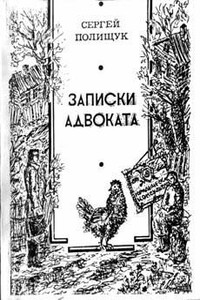
Сергей Полищук (1929 – 1994) – писатель, член Союза журналистов, член Одесской коллегии адвокатов. Три рассказа, включенные в книгу – это необычные и забавные истории об адвокатах и их клиентах, в разное время происходившие в Одессе, книга проникнута тонкой иронией и веселым одесским юмором.
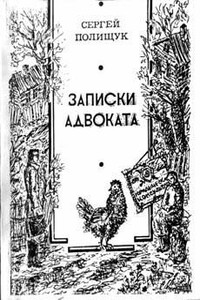
Сергей Полищук (1929 – 1994) – писатель, член Союза журналистов, член Одесской коллегии адвокатов. Глазами своего героя, молодого одессита, идеалиста и насмешника, автор остро подмечает своеобразный колорит жизни небольшого городка. Случаи из адвокатской практики, курьёзные и трагичные, разные характеры и судьбы и – любовь -составляют повесть „Старые Дороги".
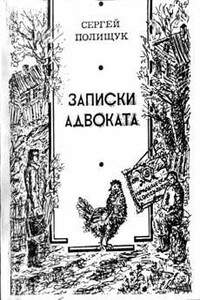
Сергей Полищук (1929 – 1994) – писатель, член Союза журналистов, член Одесской коллегии адвокатов. Три рассказа, включенные в книгу – это необычные и забавные истории об адвокатах и их клиентах, в разное время происходившие в Одессе, книга проникнута тонкой иронией и веселым одесским юмором.

«За окном медленно падал снег, похожий на серебряную пыльцу. Он засыпал дворы, мохнатыми шапками оседал на крышах и растопыренных еловых лапах, превращая грязный промышленный городишко в сказочное место. Закрой его стеклянным колпаком – и получишь настоящий волшебный шар, так все красиво, благолепно и… слегка ненатурально…».
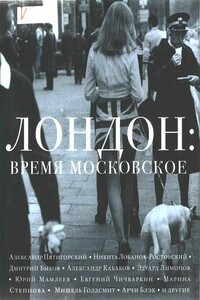
Генри Хортинджер всегда был человеком деятельным. И принципиальным. Его принципом стало: «Какой мне от этого прок?» — и под этим девизом он шествовал по жизни, пока не наткнулся на…
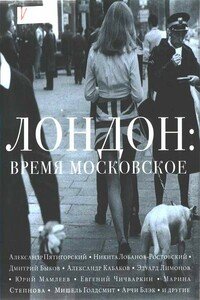
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Есть на свете такая Страна Хламов, или же, как ее чаще называют сами хламы – Хламия. Точнее, это даже никакая не страна, а всего лишь небольшое местечко, где теснятся одноэтажные деревянные и каменные домишки, окруженные со всех сторон Высоким квадратным забором. Тому, кто впервые попадает сюда, кажется, будто он оказался на дне глубокого сумрачного колодца, выбраться из которого невозможно, – настолько высок этот забор. Сами же хламы, родившиеся и выросшие здесь, к подобным сравнениям, разумеется, не прибегают…
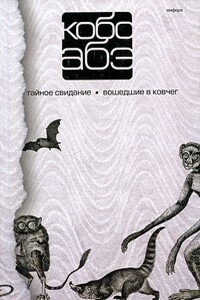
В третьем томе четырехтомного собрания сочинений японского писателя Кобо Абэ представлены глубоко психологичный роман о трагедии человека в мире зла «Тайное свидание» (1977) и роман «Вошедшие в ковчег» (1984), в котором писатель в гротескной форме повествует о судьбах человечества, стоящего на пороге ядерной или экологической катастрофы.
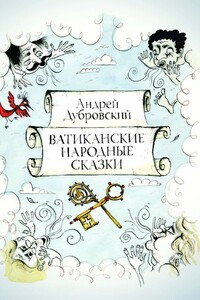
Книга «Ватиканские народные сказки» является попыткой продолжения литературной традиции Эдварда Лира, Льюиса Кэрролла, Даниила Хармса. Сказки – всецело плод фантазии автора.Шутка – это тот основной инструмент, с помощью которого автор обрабатывает свой материал. Действие происходит в условном «хронотопе» сказки, или, иначе говоря, нигде и никогда. Обширная Ватиканская держава призрачна: у неё есть центр (Ватикан) и сплошная периферия, будь то глухой лес, бескрайние прерии, неприступные горы – не важно, – где и разворачивается сюжет очередной сказки, куда отправляются совершать свои подвиги ватиканские герои, и откуда приходят герои антиватиканские.