Конец черного темника - [3]
Делаю вид, что поверил.
Мы входим в избу: лежанка, русская печь, стол в углу, даже иконы те же — Иисуса Христа и Николая Угодника, перед которыми мы разучивали дедовскую «И возрадуйся...» и бабушкину колядку «Виноградье красно-зелено моё». В чулане ведро, на лавке цепь для него, горшки, чугунки, под печью ухваты — всё, как было когда-то. У стены кровать, на ней матрас.
— Ну матрас, положим, мы выкинем, — говорит дядя Петя. — Тебе бабка Анисья новый даст.
А где же сундук? Тот самый, в котором кроме вещей хранились книги, тетрадь моя, карандаши и краски.
— Ты на чердак загляни, небось там и стоит, — говорит плотник.
Лестницы я не нашёл и прямо так, по выступам брёвен, вскарабкался наверх, снова вспугивая стаю летучих мышей. Ступил на потолок, разгрёб подопревшее сено у печной трубы, — и вот он сундук, обитый по углам медными пластинами.
Я взял его за ручки, подтащил к краю чердака и крикнул Зайцеву, чтобы помог. Мы спустили сундук на землю и втащили в избу.
С волнением открываю крышку: изнутри на ней вижу такие знакомые мне с детства приклеенные и уже пожелтевшие фотографии деда и бабушки, красочные послевоенные картинки из «Огонька» и карикатуры Дени и Кукрыниксов.
В сундуке лежат старые валенки: мои, деда, бабушки, няни, калоши, две панёвы, красный сарафан, белая, вышитая синью блузка. А под ними — книги: до слёз родной Гоголь, тот самый, с коричневыми обложками, весь затрёпанный, с жёлтыми уже листами, «Дмитрий Донской» Сергея Бородина, купленный дедом ко дню моего рождения, русские народные сказки, гнутые костяные гребни для женских волос и вот она, заветная тетрадь, на обложке которой я когда-то нарисовал море и корабли.
— Не пропала! — кричу я восторженно, будто нашёл слиток золота.
— Я же говорил, сундук на чердаке, — тоже радуется Зайцев.
Беру ведра и иду за водой. Наш колодец зарос лопухами и крапивой. В сенях должна висеть дедовская коса, заведённая лезвием за притолоку. Ею сбиваю верхнюю часть лопухов и крапивы, заглядываю в колодец. Набираю полное ведро воды и несу в избу.
Часа три мы мыли и скоблили пол, лавки, стол, стены. Потом дядя Петя принёс охапку дров. Сложил их возле лежанки:
— Надо протопить, а то мертвечиной пахнет.
Протопили, поставили на чугунную плиту лежанки чайник. Я взял рюкзак и портфель, стал собирать на стол.
— Встретил бабку Кочеткову, спрашивает, кто это дом Кандауровых распаковывает?.. Заторопилась, заохала, побежала гостинец тебе собирать, — информирует Зайцев.
Я засмеялся.
— А ты не смейся... Ты ведь теперь что ни на есть самый родной для неё человек. И вообще... На деревне много об этой земле из Норвегии говорили. Спасибо тебе ото всех нас.
— Да ладно уж... Скажете тоже.
— Не я говорю — люди...
Пришла бабка Марина Кочеткова. Принесла с десяток сырых яиц, банку мёда и два колобка сливочного масла, подошла ко мне, обняла.
К месту будет сказано: некоторое время назад я побывал в столице Норвегии Осло. Зная, что в этой стране во время Великой Отечественной войны погиб сын Кочетковой Алёшка, взял горсть земли с братской могилы в парке Весте Гравлунд, где похоронены наши солдаты, и привёз её бабке Марине.
Беря эту землю, она сказала тогда:
— Накажу добрым людям, чтоб посыпали ею руки мои, когда буду лежать мёртвой под образами...
Сели за стол. Я спросил Петра Кондратьевича про клешнятого человека и рассказал ему про встречу у родника.
Это ты верно заметил, — засмеялся плотник, вытирая выступившие на глазах слёзы. — И мы его Клешнятым зовём. На рака похож... Прям — истинный рак! Силуян Петров Белояров. Это он сам себя так величает. Белояров так Белояров... Живёт летом в лесу, заготовляет для бычков на зиму сено: в Казённом лесу у него землянка вырыта, свой там огородишко есть, картошку сажает, лук, всякий овощ. К нам в сельпо только за хлебом ходит. А зимой становится на постой у какой-нибудь старухи. Валенки катает. Для механизаторов, скотников, да мало ли... Многие из наших зимой в белояровских валенках щеголяют... Вот так и живёт, семьи нет, говорит, была, да в войну фашист порешил: жену и двоих ребятишек. А появился невесть откуда. Говорил, что когда-то в Дмитровском монастыре свечи зажигал, когда, значит, мальцом был... Служкой, значит, состоял при монахах. Вот оно как...
— В монастыре?.. В том, что на Дмитриевой горе когда-то стоял? — проверяя истинность сказанного, переспросил я плотника.
— Ну да, на Дмитриевой горе, — ответил дядя Петя Зайцев, не подозревая, как важно для меня то, что он сообщил.
Силуян Петрович Белояров... Вот вам и Клешнятый! Вот вам и разбойник Ефим Дубок!
Лишь только я остался один, сразу же раскрыл свою тетрадь. Как много, оказывается, я сумел тогда записать в неё: здесь были собраны рассказы людей о событиях шестисотлетней давности и времён Великой Отечественной войны, о послевоенных голодных годах, вырезаны и наклеены газетные заметки, касающиеся сообщений о нашем крае — Скопинском.
Вот некоторые из них.
«Когда-то наш край назывался «придонской украиной», и через него проходили сакмы — сухопутные дороги из Москвы, через Оку, в Дикое поле. Здесь же находилась так называемая засечная черта московского государства — это укреплённая пограничная линия, составленная из деревянных, а позже каменных крепостей — сторо́жей, между которыми делались завалы из полусрубленных деревьев (засеки) и земляные валы, глубокие рвы, заполнявшиеся водой. Засеки, рвы и валы являлись как бы связующей цепью между естественными препятствиями — реками, озёрами, болотами и оврагами. А там, где не было лесов, ставились надолбы, частоколы. Со времён московского князя Дмитрия была известна на краю Дикого поля Рановская засека, проходившая мимо Дмитриевой горы, на которой в честь победы на Куликовом поле был воздвигнут монастырь, мимо Скопинского городища, Петровской и Городецкой слобод, Рясско-Ямского поля, по рекам Ранове, Вёрде, озёрам Чёрному и Пятницкому, мимо сёл Секирино, Шелемишево и Чернавы.

В первой книге исторического романа Владимира Афиногенова, удостоенной в 1993 году Международной литературной премии имени В.С. Пикуля, рассказывается о возникновении по соседству с Киевской Русью Хазарии и о походе в 860 году на Византию киевлян под водительством архонтов (князей) Аскольда и Дира. Во второй книге действие переносится в Малую Азию, Германию, Великоморавию, Болгарское царство, даётся широкая панорама жизни, верований славян и описывается осада Киева Хазарским каганатом. Приключения героев придают роману остросюжетность, а их свободная языческая любовь — особую эмоциональность.

О жизни и судьбе полководца, князя серпуховско-боровского Владимира Андреевича (1353-1410). Двоюродный брат московского князя Дмитрия Донского, князь Владимир Андреевич участвовал во многих военных походах: против галичан, литовцев, ливонских рыцарей… Однако история России запомнила его, в первую очередь, как одного из командиров Засадного полка, решившего исход Куликовской битвы.

В новом историко-приключенческом романе Владимира Афиногенова «Белые лодьи» рассказывается о походе в IX веке на Византию киевлян под водительством архонтов (князей) Аскольда и Дира с целью отмщения за убийство купцов в Константинополе.Под именами Доброслава и Дубыни действуют два язычника-руса, с верным псом Буком, рожденным от волка. Их приключения во многом определяют остросюжетную канву романа.Книга рассчитана на массового читателя.
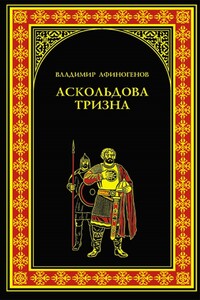
Русь 9 века не была единым государством. На севере вокруг Нево-озера, Ильменя и Ладоги обосновались варяжские русы, а их столица на реке Волхов - Новогород - быстро превратилась в богатое торжище. Но где богатство, там и зависть, а где зависть, там предательство. И вот уже младший брат князя Рюрика, Водим Храбрый, поднимает мятеж в союзе с недовольными волхвами. А на юге, на берегах Днепра, раскинулась Полянская земля, богатая зерном и тучными стадами. Ее правители, братья-князья Аскольд и Дир, объявили небольшой городок Киев столицей.

«В знойный, ясный июльский день 1768 года, по Луговой улице (ныне Морская), что прилегала к Невскому проспекту в Санкт-Петербурге, часу в третьем дня, медленно двигалась огромная карета очень неказистого вида. Она вся вздрагивала, скрипела и звенела гайками при каждом толчке; казалось, вот-вот развалится допотопный экипаж; всюду виднелись какие-то веревочки и ремешки. Наверху ее были грудой навалены сундуки, ларцы и корзины самых разнообразных форм; позади, на особом плетеном сиденье, похожем на мешок из веревок, сидел парнишка лет пятнадцати и, разинув рот, поглядывал по сторонам…».
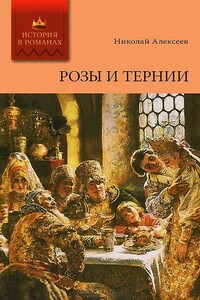
Николай Николаевич Алексеев (1871–1905) — писатель, выходец из дворян Петербургской губернии; сын штабс-капитана. Окончил петербургскую Введенскую гимназию. Учился на юридическом факультете Петербургского университета. Всю жизнь бедствовал, периодически зарабатывая репетиторством и литературным трудом. Покончил жизнь самоубийством. В 1896 г. в газете «Биржевые ведомости» опубликовал первую повесть «Среди бед и напастей». В дальнейшем печатался в журналах «Живописное обозрение», «Беседа», «Исторический вестник», «Новый мир», «Русский паломник».
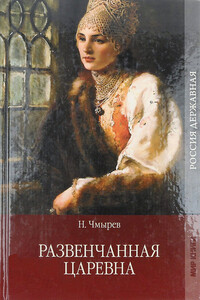
Николай Андреевич Чмырев (1852–1886) – литератор, педагог, высшее образование получил на юридическом факультете Московского университета. Преподавал географию в 1-й московской гимназии и школе межевых топографов. По выходе в отставку посвятил себя литературной деятельности, а незадолго до смерти получил место секретаря Серпуховской городской думы. Кроме повестей и рассказов, напечатанных им в период 1881–1886 гг. в «Московском листке», Чмырев перевел и издал «Кобзаря» Т. Г. Шевченко (1874), написал учебник «Конспект всеобщей и русской географии», выпустил отдельными изданиями около десяти своих книг – в основном исторические романы. В данном томе публикуются три произведения Чмырева.

В тихом городе Кафа мирно старился Абу Салям, хитроумный торговец пряностями. Он прожил большую жизнь, много видел, многое пережил и давно не вспоминал, кем был раньше. Но однажды Разрушительница Собраний навестила забытую богом крепость, и Абу Саляму пришлось воскресить прошлое…
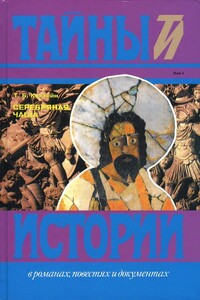
Действие романа относится к I веку н. э. — времени становления христианства; события, полные драматизма, описываемые в нем, связаны с чашей, из которой пил Иисус во время тайной вечери, а среди участников событий — и святые апостолы. Главный герой — молодой скульптор из Антиохии Василий. Врач Лука, известный нам как апостол Лука, приводит его в дом Иосифа Аримафейского, где хранится чаша, из которой пил сам Христос во время последней вечери с апостолами. Василию заказывают оправу для святой чаши — так начинается одиссея скульптора и чаши, которых преследуют фанатики-иудеи и римляне.
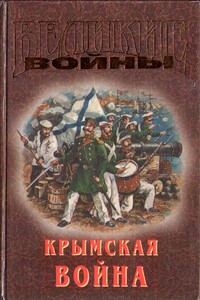
Данная книга посвящена истории Крымской войны, которая в широких читательских кругах запомнилась знаменитой «Севастопольской страдой». Это не совсем точно. Как теперь установлено, то была, по сути, война России со всем тогдашним цивилизованным миром. Россию хотели отбросить в Азию, но это не удалось. В книге представлены документы и мемуары, в том числе иностранные, роман писателя С. Сергеева-Ценского, а также повесть писателя С. Семанова о канцлере М. Горчакове, 200-летие которого широко отмечалось в России в 1998 году. В сборнике: Сергеев-Ценский Серг.