Композиция сценического пространства - [3]
Книг по режиссуре много. Начинающему режиссеру знакомо чувство жгучей досады от своей беспомощности. Прежде всего, от невладения техникой мизансцены. Но, прочтя десяток книг, он находит для утоления своей жажды лишь несколько капель.
Художники, музыканты изучают композицию. Теория композиции выделена в специальный предмет, есть учебники.
По мизансценированию учебников нет, не существует даже сколько-нибудь Систематической теории режиссерской композиции.
Тревогу по этому поводу разделял в своих, теоретических исследованиях Л. В. Варпаховский: «Почему-то пренебрежение к вопросам технологии и композиции распространилось преимущественно на режиссерское искусство. В смежных профессиях, к счастью, никогда не переставали интересоваться вопросами композиции. Композиторы-музыканты и композиторы-художники всегда занимались технологией своего искусства со школьной скамьи, понимая, какое важное значение для стиля, содержания, идеологии имеет теория и практика композиции»[3].
Чем же объяснить отсутствие теории сценической композиции? Прежде всего, молодостью режиссуры как профессии. А также некоторой неопределенностью взгляда части специалистов: надо ли заниматься сценической композицией специально, не есть ли мизансцена лишь производное от органического существования актера на сцене?
Неясность эта, очевидно, идет от недостаточно четкого понятия о мизансцене.
Прогуляемся вечером по улице. Заглянем в окна. Мы увидим несколько вариантов расположения и перемещения людей в пространстве, продиктованные органическим их поведением. Вот девушка за столом в полупрофиль к нам читает. Отложила книжку, принялась искать что-то по всей комнате. Не находит. В растерянности остановилась слева у стены. Можно ли сказать, что она выполнила ряд мизансцен?
Нет.
Ведь мизансцена это — расположение на сцене, т. е. расположение для зрителя.
Но вот девушка заметила нас, хоть и искусно скрыла это. Ее поведение не перестает быть естественным, но — мы чувствуем — в нем появилась цель: пошутить, подразнить, показаться наивной, словом, как-то воздействовать на нас с вами, зрителей. И девушку можно уже в известном смысле назвать исполнительницей, а ее перемещения и остановки в пространстве — мизансценами.
Мизансцена — это выразительное средство, язык. А от всякого языка мы требуем не имитации жизни, а живописания. Подобно тому как в рассказе о птичьих голосах мы ищем не самих голосов, но живого словесного образа, так и жизненность мизансцены состоит не в попытке имитировать подсмотренное в натуре, а в повествовании о нем средствами живой пластики.
Так или иначе, каждый режиссер вырабатывает свои собственные навыки мизансценирования большей частью по наитию. Недостаточная систематичность этого процесса поначалу неизбежно отдает дилетантизмом. С годами дилетантизм преодолевается, и к концу жизни режиссер разрабатывает свою собственную систему владения сценическим пространством. Опыт этот осознается большей частью для себя. Поколение уходит, и все начинается сначала.
При осмыслении собственного опыта, давно замечено, нельзя в чем-то избежать пристрастия. Может быть, кто-то, вдохновленный несогласием с некоторыми положениями этой книги, напишет свою, где иначе систематизирует накопленный опыт. Читатель будет иметь возможность избрать то, что ему ближе. А может быть, ознакомившись с двумя точками зрения на предмет, выработает для себя третью. И это, возможно, будет лучше всего. Особенно если вспомнить слова известного французского актера и режиссера Шарля Дюллена: «Я предпочитаю, чтобы в театре была не одна истина, но много истин, которые сталкиваются, борются между собой, сменяют друг друга. Ведь благодаря этой постоянной борьбе различных тенденций театр остается искусством живым и вечно развивающимся»[4].
1.
Говорят, мизансценирование сложнее графической композиции. Чем же?
Композиция на бумаге имеет дело с двумя измерениями, все остальное — художественный эффект. На сцене к этому прибавляется буквальная — не иллюзорная — глубина. К тому же в трехмерном пространстве фигуру необходимо рассматривать как в статике, так и в динамике. Мизансцена существует не только в пространстве, но и во времени — в последовательной композиции кадров.
Еще один предварительный вопрос: имеет ли право режиссер разрушать известные ему законы сценического письма? Думается, не только имеет, но и вряд ли смог бы творить, если бы у него отняли это право. Другое дело — чем оно достигается.
Иногда смотришь на рисунки большого художника, работающего в условной манере, и создается ложное ощущение: кажется, любой бы этак сумел — столь нарушены привычные правила изобразительности. Но если быть повнимательнее, то среди рисунков обнаружишь один-два, выдающие в художнике виртуозного рисовальщика-натуралиста, мастера композиции и перспективы. Если после этого снова сосредоточиться на более условных рисунках, легко разгадать в них сознательное разрушение той или иной букварной истины во имя определенной художественной задачи.
Совершенно очевидно, что право на какое-либо разрушение формы дает только одно — блестящее владение ею. Поэтому оставим пока разговор о «высшей математике» и обратимся к простейшей сценической композиции.
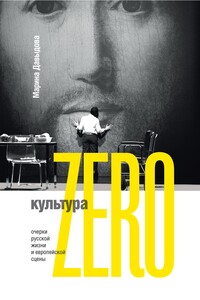
Предыдущая книга известного критика и историка театра Марины Давыдовой «Конец театральной эпохи» вышла в середине нулевых. Нынешняя – «Культура Zero» – охватывает время с середины нулевых до наших дней. Это продолжение разговора, начатого в первой книге, но разговор теперь идет не только о театре. В «Культуре Zero» можно найти и публицистику, и бытописательские очерки, и литературные эссе, и актерские портреты, и рецензии на спектакли самых важных режиссеров европейского театра от Кристофера Марталера до Яна Фабра, и разговор о главных героях отечественной сцены и разговор о главных героях отечественной сцены – К.

Творчество В.Ф.Комиссаржевской нельзя назвать белым пятном в географии искусства. Первая книга об актрисе вышла в конце XIX века. Но тема эта никогда не будет исчерпана и закрыта, так как Комиссаржевская - вечно живое явление в истории русской культуры. Настоящая книга рассказывает о том, что волновало современников в искусстве Комиссаржевской, что "рыдало" и "боролось" в мятущейся душе актрисы и почему в наши дни не угасает интерес к ее личности.
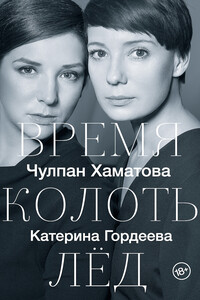
Книга “Время колоть лёд” родилась из разговоров актрисы Чулпан Хаматовой и журналиста, кинодокументалиста Катерины Гордеевой. Катя спрашивает, Чулпан отвечает. Иногда – наоборот. Каким было телевидение девяностых, когда оно кончилось и почему; чем дышал театр начала двухтысячных и почему спустя десять лет это стало опасным. Но, главное, как же вышло так, что совершенно разными путями подруги – Чулпан и Катя – пришли к фонду “Подари жизнь”? И почему именно это дело они считают самым важным сегодня, чем-то похожим на колку льда в постоянно замерзающей стране? “Эта книга – и роман воспитания, и журналистское расследование, и дневник событий, и диалог на грани исповеди” (Людмила Улицкая). Книга содержит нецензурную брань.
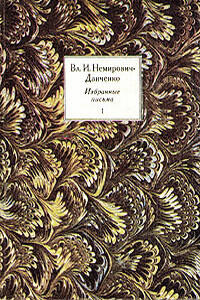
В первый том "Избранных писем" Вл.И. Немировича-Данченко входят письма 1879-1909 гг. к А.П. Чехову, А.М. Горькому, К.С. Станиславскому и другим деятелям литературы и искусства.
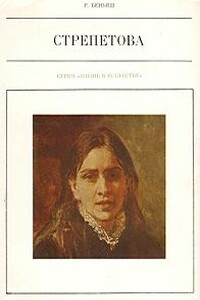
Все в жизни Пелагеи Стрепетовой, словно нарочно, сочинено для романа. Великая трагическая актриса, она и сама шла навстречу трагическим испытаниям. Творческим, человеческим, общественным. Ее биография полна резких и неожиданных столкновений, внезапных конфликтов, таинственных совпадений. Кажется, действительность сама позаботилась о том, чтобы на каждом жизненном перекрестке, с первой минуты появления на свет, подстроить непредвиденные и глубоко драматичные повороты.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.