Комментарии переводчика к «Александрийскому квартету» Л. Даррелла - [13]
И еще один элемент, имеющий сущностное отношение к общей структуре «Квартета», — центральный в тетралогии образ Александрии. Даррелл сознательно «олитературивает» свой Город, давший название всему произведению, усиливая акценты, с одной стороны, на чисто романтической экзотичности, благо что сплавленные Александрией воедино традиции Древнего Египта, эллинизма, Римской Империи, Византии, греческой и еврейской диаспор, коптского христианства, арабского Востока и европейского Запада дают для этого самый богатый материал; а с другой стороны — на экзотичности иного рода, на достаточно жестком натурализме. Сочетание вполне традиционное (стоит только вспомнить вкусы Гонкуров), ведь как одно, так и другое помогает Дарреллу экстраполировать свою Александрию, вывести ее из «здесь и сейчас» в ту область, где она получит возможность стать представительным символом мира (в двух значениях этого слова — как современной цивилизации и как «царства кесаря»). Круговое движение различных точек зрения и образных систем в тетралогии происходит внутри пространства Александрии (самое время вспомнить о «пространственности» первых трех романов). И финальный прорыв Дарли и Клеа к высшей истине связан в плане пространственном и с окончательным разрывом с Александрией, т. е. со «злым», «материальным», «темным», в гностическом смысле слов, миром.
2. «Бальтазар» и таротный уровень «Квартета»
Писать подробно о Таро особого смысла не вижу. Во-первых, элементарная литература, касательно этой темы, давно уже у нас появилась, и пусть она чаще всего далеко не лучшего разбора, но она есть. Во-вторых, о Таро применительно к сфере изящной словесности я уже писал однажды.[15] Некоторые пояснения и даже «картинки», видимо, будут необходимы — но не более того.
Таротная линия появляется у Даррелла еще в «Черной книге», чтобы в дальнейшем, обрастая множеством вариаций и ответвлений, набирая силу, выйти на поверхность в качестве главной на данном уровне структурности и в тетралогии, и в «Квинтете». Так, в «Черной книге» на протяжении совсем небольшого лирического монолога герой дважды выходит на прямые таротные параллели собственной личности и судьбы. Сначала это Дурак (Нулевой аркан), одна из ключевых фигур колоды, к которой Даррелл сразу же «пристегивает» неразрывно с ней в дальнейшем связанные темы пути, воды и времени, столь важные в «Квартете» и в «Квинтете». «Как таротный Дурак, свихнувшийся джокер колоды, я блуждаю средь событий этого пути. Сумасшедший зависит от милости времени, как лилия — от течения реки».[16] Важна здесь и чисто лексическая связь глагола «зависеть», еще более явная в оригинале, с возникающей ниже фигурой Повешенного, второго компонента базисной таротной диады Даррелла (этот же образ — откровенная отсылка к таротной символике у Пруста в «Поисках утраченного времени». У Пруста Даррелл заимствовал щедро, вплоть до отдельных ситуаций в том же «Квартете»). «Мое собственное отражение в зеркале перевернуто вверх ногами в обрамлении Хильдиных кремов, косметики, нижнего белья, фотографий. Повешенный Таро!» (XII аркан).[17]
В «Жюстин» таротный пласт также присутствует. Но, будучи неявными, таротные параллели приобретают смысл лишь при повторном чтении романа, подкрепленные осознанием заявленного в «Бальтазаре» и «расшифрованного» окончательно в «Клеа» таротного скелета. В «Бальтазаре», как то и положено у Даррелла, тема Таро возникает с самого начала. Уже на второй странице романа Дарли, рассуждающий о природе названных им «Жюстин» записок об Александрии и о необходимости вернуться к ним, видит близких ему людей, ставших героями книги, лишенными третьего измерения: «Подобно вытканным на гобеленах фигурам, они были двухмерны и населяли не Город, нет — мои бумаги». Прямая связь этого отрывка, варьирующего зеркальную тематику, с таротной основой романа, может быть и не слишком явная поначалу, поясняется в романе «Клеа», где тот же Дарли практически теми же словами говорит об александрийцах, которым он «возвращает» маленькую Жюстин, дочь Мелиссы и Нессима. Он рассказывал о них девочке как о неких сказочных героях, «раскрашенных карточных персонажах, к которым она теперь сможет причислить и себя».
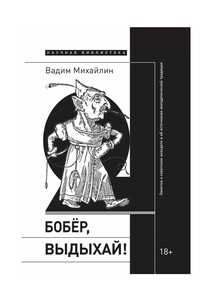
«Приходит в исполком блоха-беженка…» «Откинулся волк с зоны и решил завязать…» «Идут звери на субботник, смотрят, заяц под деревом лежит…» Почему героями советского анекдота так часто становились животные? Как зооморфные культурные коды взаимодействовали с коллективной и индивидуальной памятью, описывали социальное поведение и влияли на него? В своей книге филолог и антрополог Вадим Михайлин показывает, как советский зооморфный анекдот противостоял официальному дискурсу и его манипулятивным задачам.

Что отличает обычную историю от бестселлера? Автор этой книги и курсов для писателей Марта Олдерсон нашла инструменты для настройки художественных произведений. Именно им посвящена эта книга. Используя их, вы сможете создать запоминающуюся историю.

Герой эссе шведского писателя Улофа Лагеркранца «От Ада до Рая» – выдающийся итальянский поэт Данте Алигьери (1265–1321). Любовь к Данте – человеку и поэту – основная нить вдохновенного повествования о нем. Книга адресована широкому кругу читателей.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Сюжет новой книги известного критика и литературоведа Станислава Рассадина трактует «связь» государства и советских/русских писателей (его любимцев и пасынков) как неразрешимую интригующую коллизию.Автору удается показать небывалое напряжение советской истории, сказавшееся как на творчестве писателей, так и на их судьбах.В книге анализируются многие произведения, приводятся биографические подробности. Издание снабжено библиографическими ссылками и подробным указателем имен.Рекомендуется не только интересующимся историей отечественной литературы, но и изучающим ее.

Оригинальное творчество Стендаля привлекло внимание в России задолго до того, как появился его первый знаменитый роман – «Красное и черное» (1830). Русские журналы пушкинской эпохи внимательно следили за новинками зарубежной литературы и периодической печати и поразительно быстро подхватывали все интересное и актуальное. Уже в 1822 году журнал «Сын Отечества» анонимно опубликовал статью Стендаля «Россини» – первый набросок его книги «Жизнь Россини» (1823). Чем был вызван интерес к этой статье в России?Второе издание.

В 1838 году в третьем номере основанного Пушкиным журнала «Современник» появилась небольшая поэма под названием «Казначейша». Автором ее был молодой поэт, чье имя стало широко известно по его стихам на смерть Пушкина и по последующей его драматической судьбе — аресту, следствию, ссылке на Кавказ. Этим поэтом был Михаил Юрьевич Лермонтов.