Комбат - [10]
Крик матери: „Коля! Коля!“ — не остановил его.
— Коля, война!
Он не сразу понял ее слова. Остановился не оттого, что мать это сказала, а оттого, что звала ведь его и надо же было выслушать ее. Отдуваясь и тряся головой, чтобы стряхнуть с волос воду, он взглянул на нее, и вид ее встревожил, а потом и испугал его.
— Что ты сказала?
Она глядела на него заплаканными глазами, и была в них боязнь за него, и растерянность, и материнская боль, и еще что-то такое, пронзительно кольнувшее его сердце, что ему стало холодно сразу.
— Немец на нас напал, сынок, — дрожа губами, тихо проговорила она.
После этих материнских слов точно переломилась его жизнь на две части. Одна теперь была где-то далеко, в воспоминаниях, другая вот тут, со смертью рядом.
Теперь, столько испытав за эти месяцы войны, он часто вспоминал прошлую мирную жизнь. Все сложности и трудности в работе по сравнению с тем, что переживалось сейчас, казались такими незначительными, что его удивляло, как это раньше доставляло ему столько переживаний. Но все эти воспоминания были милы и приятны ему, и все пережитое было дорого. Так, вспоминая детство, мы умиляемся и своей несмышлености, и всему окружавшему нас миру, и людям, с которыми жили. Чем-то похожие на воспоминания детства чувства оживали в нем всякий раз, когда он думал о такой желанной теперь мирной жизни.
Когда в батальон пришли „папаши“, они принесли будто часть того прошлого мира. Земляков среди них не оказалось, но все равно было в их характерах, привычках, поведении, рассуждениях столько знакомого, привычного ему по прошлому, что он при встречах и беседах с ними каждый раз чувствовал тот жизненный воздух, которым дышал до войны. Да и в прошлой, и в нынешней жизни много приятного у него было связано с пожилыми бойцами, и он часто ловил себя на невольном желании быть с ними добрее. Теперь здесь, в нейтралке, делая передышку от бешеного лыжного марша и видя, как пожилой боец приплясывал от мороза, он участливо спросил:
— Озяб, поди?
— Да не милует.
Он сказал это так, как бы сказал и Тарасов. Перенося ударение на „у“, он придал слову ласковый смысл, выражавший его отношение к погоде. Он не злился, а просто говорил, что морозно.
— Обещали уже не раз хоть для караульной службы шубы, да все обещают пока только, — испытывая неловкость оттого, что сам в шубе, а пожилой боец этот зябнет, проговорил Тарасов.
— Ну это ничего, вытерпим, — ответил боец. — Знамо дело: где же вдруг все возьмешь? Дома одни бабенки с ребятами малыми остались. У меня вон с тремя мается. Чего спрашивать-то? Эго уж…
Он не договорил: сзади Тарасова раздался приглушенный стон и хрустнул снег. Комбат обернулся и увидел то, что видел „папаша“: один из бойцов скрючился на снегу.
— Ты ранен? — став перед ним на колени, встревоженно спросил Тарасов.
— Да… Думал, дойду, а она течет и течет… Прихватил второпях, а она идет…
— Чего же ты молчал? — и удивился, и рассердился Тарасов.
— Не хотел огрузить вас, думал, дойду…
Старшина осторожно снял с раненого шинель, разрезал рукав гимнастерки, перевязал и одел снова.
„Какие люди!“ — восхищенно думал Тарасов, ожидая, пока перевяжут раненого.
Надо было скорей домой.
— Старшина! — позвал Тарасов.
Абрамов встал перед ним.
— Вы втроем быстро к ротному. Передашь мой приказ: предупредить все посты в роте, всех в обороне, чтобы подготовились к возможной вражьей вылазке. Они могут кинуться по следу и крупной силой, штаб ведь, вроде, какой-то мы разгромили. Да пусть сейчас же ротный позвонит во все роты, чтобы и там приготовились.
— Есть сейчас же к ротному и передать, чтобы подготовились к встрече! — козырнул старшина и, взяв троих бойцов, исчез в темноте.
— Васильев!
— Есть, товарищ комбат!
— Раненого сейчас же в санчасть!
— Есть раненого в санчасть!
— Вы, — Тарасов повернулся к „папаше“, — глядите в оба. Там у нас двое оставлены, пароль они знают старый, учтите это. Если впереди завяжется стрельба, помогите им уйти.
— Понятно, — „папаша“ крякнул, поправился, — есть усилить наблюдение и выручить наших, как потребуется!
— Вы вернетесь на пост и пошлете в роту за сменой, — приказал остальным. Но один из бойцов заметил:
— Нам уж недолго стоять, и так сменят.
— Ну хорошо. Кто-нибудь помогите мне донести это, — он показал на чемодан. Один из бойцов взял трофеи, и Тарасов хотел уже идти, как „папаша“ остановил его, проговорив:
— Я все хочу спросить у вас: что же вы сегодня одни? Никитич земляк мне, понимаете, вот и беспокоюсь.
— Не расстраивайся, Никитич просто остался дома.
Никитич был ординарец комбата — они всегда были вместе. Первый его ординарец был исполнителен и расторопен, но ему все надо было указать да приказать. Сам он ничего не видел. Тарасову надоело это, и он приглядывался к бойцам, стараясь найти себе нового ординарца. Однажды по дороге из второй роты домой он наткнулся на группу бойцов, перекуривавших после работы. Они рубили сруб для дота, чтобы ночью перенести его на передовую и поставить, где было намечено. Прячась от ветра, они курили, забравшись в этот сруб, у костерка из щепы, горевшего посередине. Тарасов на лыжах подошел к глухой стене сруба и собирался было обогнуть его, чтобы выйти к двери, но разговор остановил его.

Наташа и Алёша познакомились и подружились в пионерском лагере. Дружба бы продолжилась и после лагеря, но вот беда, они второпях забыли обменяться городскими адресами. Начинается новый учебный год, начинаются школьные заботы. Встретятся ли вновь Наташа с Алёшей, перерастёт их дружба во что-то большее?
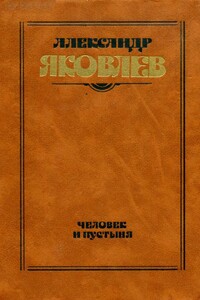
В книгу Александра Яковлева (1886—1953), одного из зачинателей советской литературы, вошли роман «Человек и пустыня», в котором прослеживается судьба трех поколений купцов Андроновых — вплоть до революционных событий 1917 года, и рассказы о Великой Октябрьской социалистической революции и первых годах Советской власти.
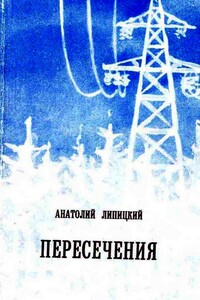
В своей второй книге автор, энергетик по профессии, много лет живущий на Севере, рассказывает о нелегких буднях электрической службы, о героическом труде северян.
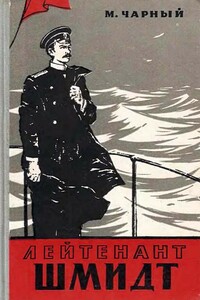
Историческая повесть М. Чарного о герое Севастопольского восстания лейтенанте Шмидте — одно из первых художественных произведений об этом замечательном человеке. Книга посвящена Севастопольскому восстанию в ноябре 1905 г. и судебной расправе со Шмидтом и очаковцами. В книге широко использован документальный материал исторических архивов, воспоминаний родственников и соратников Петра Петровича Шмидта.Автор создал образ глубоко преданного народу человека, который не только жизнью своей, но и смертью послужил великому делу революции.

Роман «Доктор Сергеев» рассказывает о молодом хирурге Константине Сергееве, и о нелегкой работе медиков в медсанбатах и госпиталях во время войны.
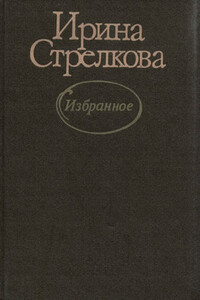
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.