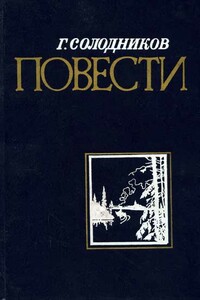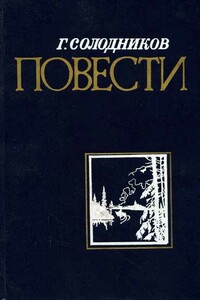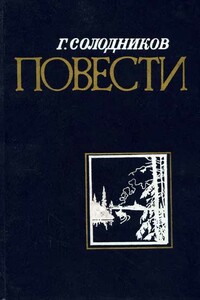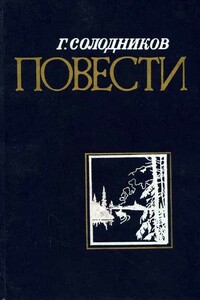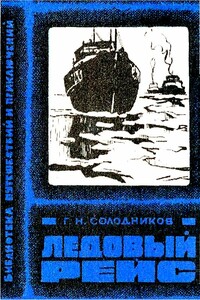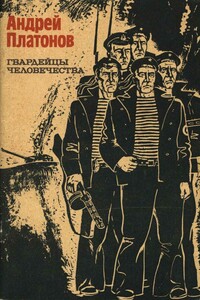Свой мир… Свои интересы… Все было соткано из благих намерений, благородных побуждений да и поступков в общем-то неплохих. И все-таки сколько теперь во многом видится эгоизма! Разве он, Пашка, еще не уехав из поселка, только-только сдав вступительные экзамены, не стал стремительно уходить душой и сердцем от друзей, от родной семьи? Когда уж уехал — там и говорить нечего. Слишком быстро затушевалось оставленное позади. Даже письма домой, честно говоря, он писал почти по обязанности, в основном, чтоб не тревожилась мать…
А в последние годы сам тоже постоянно был недоволен своим сыном, сетовал на невнимательность, отчужденность. Никак не мог понять его в первое время, когда он после армии, несмотря на уговоры, не захотел остаться дома, уехал на ударную стройку. И письма теперь пишет так же редко… У него самого с родителями разве было не так? Ведь он, Тюриков, по-настоящему сдружился с отцом, уж когда устоялась своя семья, появились свои дети, когда ушел с реки, заочно окончил энергетический институт — когда собственный, личный опыт на многое по-новому открыл глаза.
Да, все было так — и никуда от этого не денешься.
И в тот единственный приезд отца в училище Пашка слишком легко и равнодушно расстался с ним. Ушел, окунулся в свои заботы, в повседневную училищную жизнь — и все разом забылось: и отец, и даже горечь, оставленная такими желанными и такими ненужными в ту курсантскую пору щегольскими сапогами.
Только теперь, волею случая побыв один на один со своим прошлым, Павел Тюриков совершенно по-новому увидел давнее ноябрьское расставание с отцом. Прежде всего он почему-то стал подсчитывать: а сколько же ему было лет? Пашка и в то время знал, что отец у него в годах, что женился он поздно, далеко за тридцать, но никогда конкретно не задумывался о его возрасте. И вот подсчитал… Отцу тогда, еще в мае, исполнилось шестьдесят. Шестьдесят лет!
Как поздно приходит прозрение…
Снова встал перед глазами хмурый осенний день. Унылая улица с машинной, глубоко продавленной в грязном месиве колеей, со слякотным тротуаром. И отец, сгорбленный, с холщовым мешком за спиной, в порыжелом стареньком полупальто, в облезлой шапке. Он идет неторопливо, уже по-старчески чуть приволакивая ноги в разбитых кирзачах. Идет не оглядываясь, опустив голову.
О чем он думал в те минуты? Что творилось с ним, так досадно не сумевшим донести до сына скупую родительскую любовь, старательно приготовленную радость? Никогда уж не узнать об этом Тюрикову. Никогда!
И, может, потому начисто забылись давнишние, уже изжитые обиды, и на душе у него сейчас — лишь горькое сожаление и запоздалое чувство неизбывной и до конца необъяснимой своей вины перед давно и навсегда ушедшим отцом.