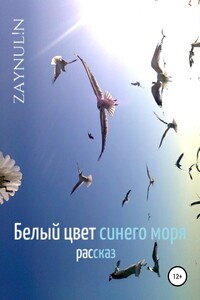Коллекция: Петербургская проза (ленинградский период). 1970-е - [4]
Естественно, ни одна традиция не могла быть воспроизведена целиком. Рассказ Юрия Шигашова «Дураки» — характерный пример диалога с поэтикой и идеологией А. Платонова, точнее, попытка отделить поэтику от политики. Отдельные предложения кажутся калькой платоновской фразы («Он был молчалив и… много работал, как будто дополняя в себе недостающую умственную работу в голове работой своих рук, будто желая заполнить себя этой простой бесконечной работой»). Однако именно намеренно опущенные при цитировании слова — «как все недоразвитые люди; много работал» и «и уж точно бессмысленной для него работой» — обозначают границу конфронтации с традицией Платонова: превращение героев из чудаков-романтиков в умственно отсталых «дураков». Хотя место действия — провинциальный городок, созданный в революцию из глухого полустанка, — то же самое, разве что навсегда покинутое мечтой о превращении его в «прекрасный и яростный мир».
Интересный и своеобразный набор механизмов символического самоутверждения представляет собой и практика одного из основателей знаменитой еще по 1960-м годам группы «Горожане» Владимира Губина, в частности повесть «Илларион и Карлик». В ней, конечно, отчетливо влияние модной в этот период латиноамериканской прозы, и прежде всего X. Кортасара, можно при желании найти фрагменты, напоминающие Набокова, но куда важнее присутствие «вывернутого, сдвинутого орнаментального слова, загонявшего смысл в невозможность никому и ничему служить, кроме себя самого» (О. Юрьев). Характерно, что критик, принадлежащий совершенно другому поколению питерского андеграунда, проводя параллель между орнаментализмом и принципиальной асоциальностью («никому и ничему не служить, кроме себя самого»), говорит в равной степени и о Губине, и о себе, потому что столь же высоко оценивает одну из самых популярных для ленинградской культуры систем эстетического позиционирования. Понятно, что в этом демонстративном эскапизме почти в равной степени содержатся отсылка к аристократическому превосходству (например, к Пушкину — «себе служить и угождать») и вполне простительное (то есть тактически оправданное) писательское кокетство и лукавство (нет писателей, пишущих для себя, потому что в этом случае о них никто бы не узнал, а раз знают, значит, они предприняли ряд шагов для обеспечения себе известности); но лишний раз подчеркнуть избранность, уникальность, единичность принятой роли означает повысить ее символическую ценность в глазах читателя. Но самое главное, если бы писательская практика никому и ничему не служила, она бы не была востребована. А она бывает востребована в той степени и теми, кто в процессе интерпретации текста способен апроприировать его символические инструменты для социального и психологического самоутверждения. Создание орнаментального текста основывается на предположении, что сложность будет востребована той средой, в которой социальная стратификация происходит концептуально схожим образом. Совершенно необязательно, чтобы писатель сознательно ориентировался на ожидания известной ему аудитории, очень часто эстетические предпочтения автора кажутся ему естественными, единственно возможными, независимыми и репрезентирующими его, и только его, персональные вкусы. Это, однако, не отменяет подчиненность процесса выбора законам экономики обмена. Стратегии писателей и читателей одного круга взаимоувязаны, и неслучайно Губин называет свое окружение «сотоварищами по выживанию».
Влияние орнаментальной прозы отчетливо демонстрируют и рассказы Александра Морева (его демонстративное самоубийство — в 45-летнем возрасте он бросился в вентиляционную шахту строившейся станции метро — еще одно доказательство того, как трудно осваивалось новое социальное поведение теми, кто стал пионерами дистанцирования от общей официальной системы ценностей и противопоставления ей системы ценностей небольшой группы). Морев пытался совместить бытование во «второй культуре» с надеждами на успех в «большом социуме» (ему удалось опубликовать несколько рассказов и стихотворений в советской печати). Но в 1970-е годы куда употребительней были стратегии тотального обособления, в рамках которых советской власти как бы уже не существовало. Или — еще не существовало. Этим уже и еще, в которых настоящее подлежало отчуждению, соответствовали многочисленные примеры использования условного письма, где отсутствовали признаки эпохи, а отстраненность взгляда действительно доходила до «отчужденности мира». Идеологема восстановления разорванной связи времен получала в этом случае буквальное, дословное подтверждение, так как именно «советское» слово изгонялось, чем факультативно подтверждалась ценность досоветской, классической культуры и схема функционирования вне области применения «советского» языка. На эксплуатации приемов условного письма основывались самые разнообразные практики — от интеллектуальных притч до рассказов, воспроизводящих современность без применения современных (советских) понятий. Иначе говоря, в фокусе оказывалось настоящее, увиденное словно из прошлого или из будущего, а точнее — и именно это прежде всего подразумевали адепты условного письма, — с точки зрения вечности.
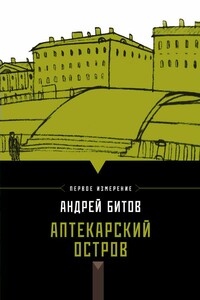
«Хорошо бы начать книгу, которую надо писать всю жизнь», — написал автор в 1960 году, а в 1996 году осознал, что эта книга уже написана, и она сложилась в «Империю в четырех измерениях». Каждое «измерение» — самостоятельная книга, но вместе они — цепь из двенадцати звеньев (по три текста в каждом томе). Связаны они не только автором, но временем и местом: «Первое измерение» это 1960-е годы, «Второе» — 1970-е, «Третье» — 1980-е, «Четвертое» — 1990-е.Первое измерение — «Аптекарский остров» дань малой родине писателя, Аптекарскому острову в Петербурге, именно отсюда он отсчитывает свои первые воспоминания, от первой блокадной зимы.«Аптекарский остров» — это одноименный цикл рассказов; «Дачная местность (Дубль)» — сложное целое: текст и рефлексия по поводу его написания; роман «Улетающий Монахов», герой которого проходит всю «эпопею мужских сезонов» — от мальчика до мужа.
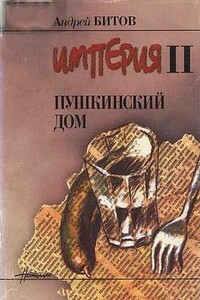
Роман «Пушкинский дом» критики называют «эпохальной книгой», классикой русской литературы XX века. Законченный в 1971-м, он впервые увидел свет лишь в 1978-м — да и то не на родине писателя, а в США.А к российскому читателю впервые пришел только в 1989 году. И сразу стал культовой книгой целого поколения.
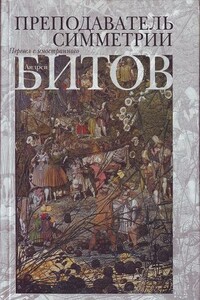
Новый роман Андрея Битова состоит из нескольких глав, каждая из которых может быть прочитана как отдельное произведение. Эти тексты написал неизвестный иностранный автор Э. Тайрд-Боффин о еще менее известном авторе Урбино Ваноски, а Битов, воспроизводя по памяти давно потерянную книгу, просто «перевел ее как переводную картинку».Сам Битов считает: «Читатель волен отдать предпочтение тому или иному рассказу, но если он осилит все подряд и расслышит эхо, распространяющееся от предыдущему к следующему и от каждого к каждому, то он обнаружит и источник его, то есть прочтет и сам роман, а не набор историй».
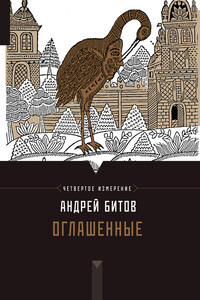
Роман-странствие «Оглашенные» писался двадцать лет (начатый в начале 70-х и законченный в 90-х). По признанию автора, «в этой книге ничего не придумано, кроме автора». Это пазл, сложенный из всех жанров, испробованных автором в трех предыдущих измерениях.Автор знакомит читателя с главными солдатами Империи: биологом-этологом Доктором Д., предлагающем взглянуть на венец природы глазами других живых существ («Птицы, или Новые сведения о человеке»), и художником-реставратором Павлом Петровичем, ищущем свою точку на картине Творца («Человек в пейзаже»)
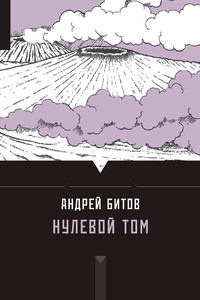
В «Нулевой том» вошли ранние, первые произведения Андрея Битова: повести «Одна страна» и «Путешествие к другу детства», рассказы (от коротких, времен Литературного объединения Ленинградского горного института, что посещал автор, до первого самостоятельного сборника), первый роман «Он – это я» и первые стихи.
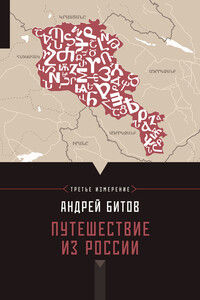
«Империя в четырех измерениях» – это книга об «Империи», которой больше нет ни на одной карте. Андрей Битов путешествовал по провинциям СССР в поиске новых пространств и культур: Армения, Грузия, Башкирия, Узбекистан… Повести «Колесо», «Наш человек в Хиве, или Обоснованная ревность» и циклы «Уроки Армении», «Выбор натуры. Грузинской альбом» – это история народов, история веры и войн, это и современные автору события, ставшие теперь историей Империи.«Я вглядывался в кривую финскую березку, вмерзшую в болото родного Токсова, чтобы вызвать в себе опьянение весенним грузинским городком Сигнахи; и топтал альпийские луга, чтобы утолить тоску по тому же болоту в Токсове».
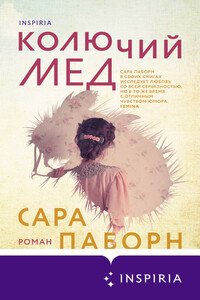
Журналистка Эбба Линдквист переживает личностный кризис – она, специалист по семейным отношениям, образцовая жена и мать, поддается влечению к вновь возникшему в ее жизни кумиру юности, некогда популярному рок-музыканту. Ради него она бросает все, чего достигла за эти годы и что так яро отстаивала. Но отношения с человеком, чья жизненная позиция слишком сильно отличается от того, к чему она привыкла, не складываются гармонично. Доходит до того, что Эббе приходится посещать психотерапевта. И тут она получает заказ – написать статью об отношениях в длиною в жизнь.
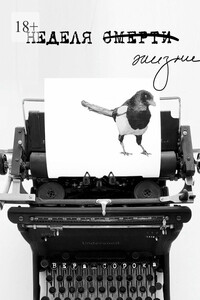
Истории о том, как жизнь становится смертью и как после смерти все только начинается. Перерождение во всех его немыслимых формах. Черный юмор и бесконечная надежда.
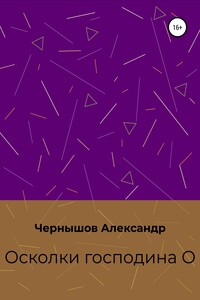
Однажды окружающий мир начинает рушиться. Незнакомые места и странные персонажи вытесняют привычную реальность. Страх поглощает и очень хочется вернуться к привычной жизни. Но есть ли куда возвращаться?
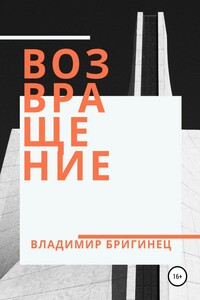
Проснувшись рано утром Том Андерс осознал, что его жизнь – это всего-лишь иллюзия. Вокруг пустые, незнакомые лица, а грань между сном и реальностью окончательно размыта. Он пытается вспомнить самого себя, старается найти дорогу домой, но все сильнее проваливается в пучину безысходности и абсурда.
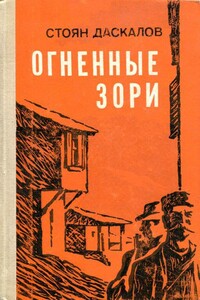
Книга посвящается 60-летию вооруженного народного восстания в Болгарии в сентябре 1923 года. В произведениях известного болгарского писателя повествуется о видных деятелях мирового коммунистического движения Георгии Димитрове и Василе Коларове, командирах повстанческих отрядов Георгии Дамянове и Христо Михайлове, о героях-повстанцах, представителях различных слоев болгарского народа, объединившихся в борьбе против монархического гнета, за установление народной власти. Автор раскрывает богатые боевые и революционные традиции болгарского народа, показывает преемственность поколений болгарских революционеров. Книга представит интерес для широкого круга читателей.
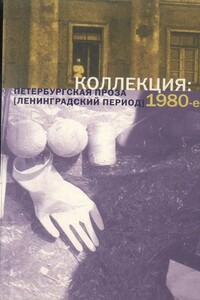
Последняя книга из трех под общим названием «Коллекция: Петербургская проза (ленинградский период)». Произведения, составляющие сборник, были написаны и напечатаны в сам- и тамиздате еще до перестройки, упреждая поток разоблачительной публицистики конца 1980-х. Их герои воспринимают проблемы бытия не сквозь призму идеологических предписаний, а в достоверности личного эмоционального опыта.Автор концепции издания — Б. И. Иванов.
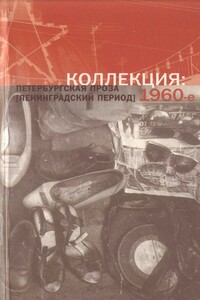
Первая книга из трех под общим названием «Коллекция: Петербургская проза (ленинградский период)», посвященных 1960–1980-м годам XX века. В нее вошли как опубликованные, так и не публиковавшиеся, ранее произведения авторов, принадлежащих к так называемой «второй культуре». Их герои — идеалисты без иллюзий. Честь и достоинство они обретали в своей собственной, отдельно от советского государства взятой жизни.