Коллайдер - [35]
Обеспеченный всеми условиями для плодотворной работы, Лоуренс возобновил свои исследования точного хронометрирования атомных процессов. Но через какие-то семь месяцев дело приняло неожиданный оборот. Незадолго до апрельского Дня смеха в год, когда мечтам биржевиков суждено было рухнуть, а мечтам физиков в области высоких энергий - воплотиться, Лоуренс сидел в библиотеке Беркли и просматривал журналы. Ему в глаза бросилась статья Видероэ. Будто кто-то специально ему ее подбросил! В первую очередь обращали на себя внимание не слова, а диаграммы - эскизы электродов и трубок, предназначенных для ускорения частиц.
Из двух ускорителей Видероэ - линейной установки с двумя трубками и кольцевого «лучевого трансформатора» - Лоуренсу больше приглянулся второй. Ученый мгновенно понял, что у прямолинейного прибора потолок очень низок: максимум несколько фаз разгона до того, как частицы ударят по мишени. Но если трубки согнуть в полуокружности, в зазорах включить электрическое поле, а частицы удерживать на круге центральным магнитом, можно будет подхлестывать их снова и снова. Лоуренс заметил: по удачному свойству магнетизма, когда частица бегает по кругу в постоянном магнитном поле, отношение ее скорости к радиусу орбиты (угловая скорость) остается неизменным, даже если частица ускоряется. Поскольку угловая скорость показывает, сколько оборотов тело совершает за единицу времени, ее неизменное значение говорит нам, что тело будет проходить мимо данной точки через равные промежутки времени. К примеру, когда смотришь на ипподроме скачки, лошадь пробегает мимо ровно раз в минуту. Благодаря этой периодичности, догадался Лоуренс, достаточно регулярно (в ритме орбитального движения) подвергать частицы перепадам напряжения, чтобы они постепенно ускорились до такой энергии, когда они уже могут пробить ядро-мишень. Лоуренс нашел изъян в конструкции Видероэ: электроны, оказалось, сбивались в кучу из-за неточного хронометража ускоряющих импульсов.
Лоуренс показал свои чертежи Дональду Шейну, математику из Беркли, и тот подтвердил верность расчетов. Когда Шейн полюбопытствовал: «Зачем вам это?» - Лоуренс радостно ответил: «Я собираюсь обстрелять атомы и разломать их!»
На следующий день его воодушевление еще больше возросло, когда из новых вычислений он увидел, что в его проектируемом ускорителе частицы будут продолжать двигаться все быстрее и быстрее, и неважно, насколько сильно от центра они при этом удалились. Жена коллеги даже слышала, как вышагивающий по университетскому городку павлином Лоуренс воскликнул: «Я стану знаменитым!»>34
По привычке детства ему не терпелось поделиться своими изысканиями с Туве, работавшим тогда в Институте Карнеги в Вашингтоне. Но Туве встретил эту конструкцию без особого восторга. По иронии судьбы лучшие друзья превратились в соперников и в вопросе расщепления ядра не разделяли взглядов друг друга. Туве совместно с Грегори Брейтом и Лоуренсом Хафстадом сделали ставку на трансформатор Теслы. Низкое напряжение в одной из двух катушек этого устройства возбуждает высокое напряжение в своей соседке, причем перепад потенциала может быть огромным. Катушки Теслы, однако, было трудно заизолировать, а потери энергии оставляли желать лучшего. Едва появились высоковольтные генераторы Ван де Граафа, Туве осознал их эффективность и стал собирать собственные модели.
Из-за скептических отзывов Туве и его коллег Лоуренс поначалу сомневался в своей правоте. (Свой прибор он назвал магнитно-резонансным ускорителем, мы теперь его знаем как циклотрон.) И только подбадривающие слова уважаемого ученого помогли Лоуренсу поверить в свой проект. В 1929 г. на рождественских праздниках он за бутылкой подпольного вина (действовал сухой закон) показал свои наброски гостившему в США немецкому физику Отто Штерну. Тот пришел в восхищение и настоятельно посоветовал воплотить эту идею в жизнь. «Эрнест, ни слова больше, - убеждал Штерн. - Немедленно… принимайтесь за работу»>35.
Кокрофт, Уолтон, Ван де Грааф, Туве и другие ученые-ядерщики наступали Лоуренсу на пятки, и ему некогда было сидеть сложа руки, надо было срочно строить и запускать ускоритель. Он отвел в сторонку Нильса Эдлефсена, своего первого аспиранта, и задал вопрос: «Помните, мы обсуждали мою безумную идею? Там все так просто, что не пойму, почему никто до нее не додумался. Вы не видите никакой ошибки?»
Эдлефсен ответил, что идея вполне разумная. «Отлично! - сказал Лоуренс. - Тогда за работу. Приготовьте все, что нам может понадобиться».
И под руководством Лоуренса Эдлефсен из груды подручных материалов, отыскавшихся в лаборатории, принялся собирать опытный образец. Круглая медная цистерна, разрезанная пополам, превратилась в два электрода, которые подсоединили к радиочастотному генератору, выдающему регулярные импульсы напряжения. Эдлефсен упаковал весь прибор в стеклянный корпус, поместил его между 10-сантиментровыми полюсами направляющего магнита и - последний шаг - залил все стыки липким воском. Этот ускоритель, появившийся в начале 1930-х гг., элегантностью не отличался. Но зато после некоторой настройки исправно удерживал протоны на орбите - к вящему удовольствию Лоуренса.
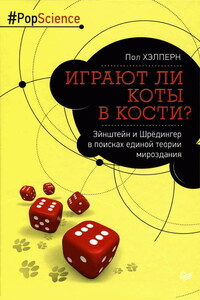
Многие физики всю свою жизнь посвящают исследованию конкретных аспектов физического мира и поэтому не видят общей картины. Эйнштейн и Шрёдингер стремились к большему. Поиски привели их к важным открытиям: Эйнштейна — к теории относительности, а Шрёдингера — к волновому уравнению. Раздразненные найденной частью решения, они надеялись завершить дело всей жизни, создав теорию, объясняющую всё.Эта книга рассказывает о двух великих физиках, о «газетной» войне 1947 года, разрушившей их многолетнюю дружбу, о хрупкой природе сотрудничества и открытий в науке.Пол Хэлперн — знаменитый физик и писатель — написал 14 научно-популярных книг.
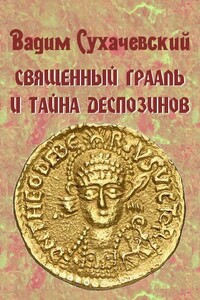
Говорят: история умеет хранить свои тайны. Справедливости ради добавим: способна она порой и проговариваться. И при всем стремлении, возникающем время от времени кое у кого, вытравить из нее нечто нежелательное, оно то и дело будет выглядывать наружу этими «проговорками» истории, порождая в людях вопросы и жажду дать на них ответ. Попробуем и мы пробиться сквозь бастионы одной величественной Тайны, пронзающей собою два десятка веков.
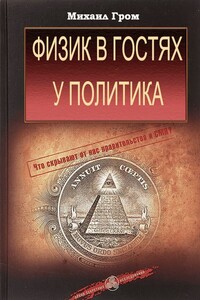
Эта книга для людей которым хочется лучше понять происходящее в нашем мире в последние годы. Для людей которые не хотят попасть в жернова 3-ей мировой войны из-за ошибок и амбиций политиков. Не хотят для своей страны судьбы Гитлеровской Германии или современной Украины. Она отражает взгляд автора на мировые события и не претендуют на абсолютную истину. Это попытка познакомить читателя с альтернативной мировой масс медиа точкой зрения. Довольно много фактов и объяснений автор взял из открытых источников.
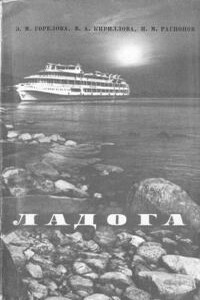
"Ладога" - научно-популярный очерк об одном из крупнейших озер нашей страны. Происхождение и географические характеристики Ладожского озера, животный и растительный мир, некоторые проблемы экономики, города Приладожья и его достопримечательности - таковы вопросы, которые освещаются в книге. Издание рассчитано на широкий круг читателей.
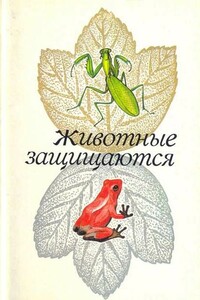
Комплект из 16 открыток знакомит читателя с отдельными животными, отличающимися наиболее типичными или оригинальными способами пассивной обороны. Некоторые из них включены в Красную книгу СССР как редкие виды, находящиеся под угрозой исчезновения и поэтому нуждающиеся в строгой охране. В их числе, например, белая чайка, богомол древесный, жук-бомбардир ребристый, бабочки-медведицы, ленточницы, пестрянки. Художник А. М. Семенцов-Огиевский.
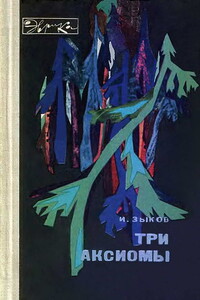
О друзьях наших — деревьях и лесах — рассказывает автор в этой книге. Вместе с ним читатель поплывет на лодке по Днепру и увидит дуб Тараса Шевченко, познакомится со степными лесами Украины и побывает в лесах Подмосковья, окажется под зеленым сводом вековечной тайги и узнает жизнь городских парков, пересечет Белое море и даже попадет в лесной пожар. Путешествуя с автором, читатель побывает у лесорубов и на плотах проплывет всю Мезень. А там, где упал когда-то Тунгусский метеорит, подивится чуду, над разгадкой которого ученые до сих пор ломают головы.
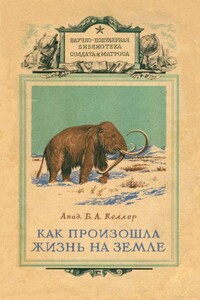
Давайте совершим путешествие вместе с наукой в далёкое прошлое, чтобы прийти к тому времени, когда зарождалась жизнь на Земле, и узнать, как это совершалось. От такого путешествия станет крепче уверенность в силе науки, в силе человеческого разума, в нашей собственной силе.