Когда же придет настоящий день - [14]
Впрочем, и подобных-то героев у нас очень немного, да и из них большая часть не выдерживает себя до конца. Гораздо многочисленнее в нашем образованном обществе другой разряд людей - занимающихся размышлениями. Из этих тоже есть много таких, которые хоть и размышляют, но ничего не умеют понять; но об этих мы не говорим. Мы хотим указать только на тех действительно с светлою головою людей, которые путем долгих сомнений и исканий дошли до того же единства и ясности идеи, с какими является перед нами, без всяких особенных усилий, Инсаров. Эти люди понимают, где корень зла, и знают, что надо делать, чтобы зло прекратить; они глубоко и искренно проникнуты мыслью, до которой добились наконец. Но - в них нет уже силы для практической деятельности; они столько ломали себя, что натура их как-то надселась и обессилела. Они с сочувствием смотрят на приближение новой жизни, но сами идти ей навстречу не могут, и ими не может удовлетворяться свежее чувство человека, жаждущего деятельного добра и ищущего себе руководителя.
Никто из нас не берет готовыми человечных понятий, во имя которых нужно потом вести жизненную борьбу. Оттого ни в ком и нет той ясности, той цельности воззрений и действий, которые так естественны хоть бы, например, в Инсарове. У него впечатления жизни, действующие на сердце и пробуждающие его энергию, постоянно подкрепляются требованиями рассудка, всем теоретическим образованием, которое он получает. У нас совершенно наоборот. Один из наших знакомых, держащийся передовых мыслей и сгорающий тоже жаждою деятельного добра, но человек кротчайший и безвреднейший в мире, вот что рассказывал нам о своем развитии, в объяснение своей теперешней бездеятельности.
"По натуре своей, - говорил он, - я был мальчик очень добрый и впечатлительный. Я, бывало, плакал и метался, слушая рассказ о каком-нибудь несчастии, я страдал при виде чужого страдания. Помню, что я не спал ночи, терял аппетит и не мог ничего делать, когда кто-нибудь в доме был болен; помню, что не раз приходил я в некоторого рода бешенство при виде истязаний, какие чинил один мой родственник над своим сыном, моим приятелем. Все, что я видел, все, что слышал, развивало во мне тяжелое чувство недовольства; в душе моей рано начал шевелиться вопрос: да отчего же всё так страдает и неужели нет средства помочь этому горю, которое, кажется, всех одолело? Я жадно искал ответа на эти вопросы, и скоро мне дали ответ, разумный и систематический. Я начал учиться. Первая пропись, которую я написал, была такова: "истинное счастие заключается в спокойствии совести". На расспросы мои о совести мне объяснили, что она карает нас за дурные поступки и награждает за хорошие. Все мое внимание устремилось теперь на то, чтобы узнать, какие поступки хороши, какие дурны. Это было нетрудно: кодекс* нравственности был готов - и в прописях, и в домашних наставлениях, и в особом курсе. "Почитай старших", "Не надейся на свои силы, ибо ты - ничто", "Будь доволен тем, что имеешь, и не желай большего", "Терпением и покорностью приобретается любовь общая" и пр. в таком роде писал я в прописях. Дома и от всех окружающих слышал я то же самое; а в разных курсах узнал я, что совершенного счастья на земле не может быть, но что насколько оно возможно, настолько достигнуто в благоустроенных государствах, из которых наилучшее есть мое отечество. Я узнал, что Россия теперь не только велика и обильна, но что и порядок в ней господствует самый совершенный; что стоит только исполнять законы и приказания старших да быть умеренным, и тогда полнейшее благополучие ожидает человека, какого бы он ни был звания и состояния. Отрадны мне были все эти открытия, и я жадно ухватился за них, как за лучшее решение всех моих сомнений. Вздумал было я поверять их моим неопытным умом, но многое пришлось мне не под силу, а что оказывалось доступным, то выходило так, верно. И вот я доверчиво и восторженно предался новооткрытой системе, в ней заключил все свои стремления и лет двенадцати был уже маленьким философом и страшным партизаном законности. Я дошел до того убеждения, что во всяком несчастии виноват сам человек, - или тем, что не поберегся, не остерегся, или тем, что не хотел довольствоваться малым, или тем, что не проникнут достаточным уважением к закону и к воле старших. Собственно закон я еще не совсем хорошо представлял себе, но он олицетворялся для меня во всяком начальстве и старшинстве. Оттого в этот период моей жизни я постоянно стоял за учителей, начальников и т.д. и был очень любим начальством и старшими классами. Раз меня чуть не выкинули в окно товарищи: один учитель сказал целому классу: "свиньи вы!"; все пришли в азарт по окончании класса, а я принялся защищать учителя и доказывать, что он имел полное право сказать это. В другой раз исключен был один из наших товарищей за грубость начальству; все жалели о нем, потому что он был лучший между нами, но я утверждал, что он наказание вполне заслужил, и очень удивлялся, как он, будучи таким умным мальчиком, не мог понять, что покорность старшим есть первый долг наш и первое условие счастья. Так с каждым днем укреплялся я в своих понятиях законности и мало-помалу привыкал смотреть на большинство людей только как на орудие исполнения высших приказаний. Вместе с тем я порывал живую связь с душою человека, я перестал тревожиться бедствиями своих собратий, перестал отыскивать возможность облегчить их. "Сами виноваты", - говорил я про себя и стал даже питать к ним не то злобу, не то презрение, как к людям, не умеющим пользоваться спокойно и смирно теми благами, которые им предлагаются по силе общественного благоустройства. Все, что было доброго в моей натуре, обратилось в другую сторону - к поддержанию прав старших над нами. Я чувствовал, что в этом заключается самоотвержение, отречение от собственной самостоятельности, убежден был, что делаю это в видах общей пользы, и считал себя чуть не героем. Я знаю, что многие так и остаются на этой степени, а другие ее видоизменяют слегка и уверяют, что они совсем переменились. Но мне, к счастию, действительно пришлось переменить свое направление довольно рано. Лет четырнадцати я сам имел уже старшинство кое над чем - и в классе и в доме, и, разумеется, оказался при этом очень плох. Я умел делать все, что от меня требовали, но что и как мне требовать - этого я не знал. При всем том я был суров - и неподступен. Но скоро мне стало совестно, и я принялся поверять свои прежние понятия о начальстве. Поводом к этому был один случай, пробудивший опять живые ощущения в моем мертвевшем сердце. Как старший брат и умница, я учил, между прочим, одну из сестер моих. Мне дано было право присуждать ей наказания за леность и ослушание и пр. Раз она что-то была рассеяна и никак не хотела понять моих толкований; я велел ей стать на колени. Она тотчас собралась с мыслями и, принявши внимательный вид, стала просить, чтобы я повторил еще раз свои слова. Но я потребовал, чтоб она прежде исполнила приказание - стала на колени; она заупрямилась. Тогда я схватил ее за руки, поднял с места, потом положил ей свои локти на плечи и изо всех сил надавил вниз. Бедная девочка опустилась на колени и взвизгнула: у ней свихнулась нога при этом движении. Я очень испугался; но когда мать стала бранить меня за такое обхождение с сестрой, я очень хладнокровно старался доказать, что она сама виновата, что если б она тотчас послушалась моего приказания, то ничего бы этого и не было. Однако же втайне я мучился, тем более что сестру свою я очень любил. В это время выяснилась мне мысль, что ведь и старшие могут быть неправы и делать нелепости и что уважать нужно, собственно, закон как он есть, а не как проявляется в толкованиях того или другого лица. Тут пошла у меня критика действий лиц, и я из консервативной безответственности стремительно перескочил в opposition legale**. Но долгое время я приписывал все дурное одним только частным злоупотреблениям и нападал на них - не во имя насущных потребностей общества, не из сострадания к несчастным братиям, а просто во имя положительного закона. В то время я, конечно, с жаром стал бы говорить против жестокого обращения с неграми, но, подобно некоему московскому публицисту, от всей души обвинил бы Брауна, совершенно противозаконно вздумавшего освобождать негров[*]. Однако я был еще тогда очень молод, вероятно моложе почтенного публициста, мысль моя двигалась и бродила; я не мог остановиться на этом и, после многих соображений, дошел наконец до сознания, что и законы могут быть несовершенны, что они имеют относительное, временное и частное значение и должны подлежать переменам с течением времени и по требованиям обстоятельств. Но опять, во имя чего так рассуждал я? Во имя высшего, отвлеченного закона справедливости, а вовсе не по внушению живого чувства любви к собратьям, вовсе не по сознанию тех прямых, настоятельных надобностей, которые указываются идущею перед нами жизнью. И что же? Вот я сделал и последний шаг: от отвлеченного закона справедливости я перешел к более реальному требованию человеческого блага; я все свои сомнения и умствования привел наконец к одной форме: человек и его счастье. Но ведь эта формула была в душе моей еще в детстве, прежде чем я начал обучаться разным наукам и писать назидательные прописи. И, - сказать ли? теперь я ее лучше понимаю и основательнее могу доказать; но тогда я чувствовал ее сильнее, она более была связана с моим существом, и даже, кажется, я готов был тогда больше сделать для нее, чем теперь. Я стараюсь теперь не делать ничего противоречащего сознанному мною закону, стараюсь не отнимать счастия у людей; но этой пассивной ролью я и ограничиваюсь. Броситься на поиск счастья, приблизить его к людям, разрушить все, что ему мешает, - это я мог бы только тогда, если бы мои детские чувства и мечты беспрепятственно развились и окрепли. А между тем они глохли и умирали во мне лет пятнадцать, и только теперь я снова возвращаюсь к ним и нахожу их бледными, тощими, слабыми. Мне еще нужно восстановлять их, прежде чем употреблять в дело; да и кто знает, удастся ли восстановить?"...

Книга «Счастие не за горами» содержит ряд характерных для либеральной идеологии высказываний: ссылки на английскую «законность, любовь свободы, разумности и порядка», восторженное отношение к российской «гласности», утверждение надклассовости науки, замечания, что «купцам свойственна любовь преимущественно к торговле, а не к обогащению», что «учиться у простого народа – все равно что учиться у детей, подражать им» и т. д. В своей рецензии Добролюбов выявляет политическую суть книги.

Н. А. Жеребцов – публицист славянофильской ориентации, крупный чиновник (в частности, служил вице-директором департамента в Министерстве государственных имуществ, виленским гражданским губернатором, был членом Совета министра внутренних дел). «Опыт истории цивилизации в России» привлек внимание Добролюбова как попытка систематического приложения славянофильских исторических взглядов к конкретному материалу, позволявшая наглядно продемонстрировать их антинаучный характер: произвольное противопоставление разных сторон исторического прогресса – духовной и социальной, односторонний подбор фактов, «подтягивание» их к концепции и т. п.

«…Пословицы и поговорки доселе пользуются у нас большим почетом и имеют обширное приложение, особенно в низшем и среднем классе народа. Кстати приведенной пословицей оканчивается иногда важный спор, решается недоумение, прикрывается незнание… Умной, – а пожалуй, и не умной – пословицей потешается иногда честная компания, нашедши в ней какое-нибудь приложение к своему кружку. Пословицу же пустят иногда в ход и для того, чтобы намекнуть на чей-нибудь грешок, отвертеться от серьезного допроса или даже оправить неправое дело…».

Статья Добролюбова, появившаяся после выхода третьего тома «Губернских очерков», по своей идейной направленности примыкала к высказываниям Чернышевского, содержащимся в его «Заметках о журналах» по поводу первых очерков и в специальной статье, явившейся отзывом на первые два тома очерков. Чернышевский назвал «превосходную и благородную книгу» Щедрина одним из «исторических фактов русской жизни» и «прекрасным литературным явлением». «Губернскими очерками», по его словам, «гордится и должна будет гордиться русская литература».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Статье Добролюбова, написанной от имени редакции «Современника», предшествовали следующие обстоятельства. В июньском номере журнала было помещено «Современное обозрение» (автором его был Е. П. Карнович), представлявшее обзор статей по еврейскому вопросу. Автор обзора протестовал против мер, направленных на угнетение еврейского народа, но вместе с тем указывал на те отрицательные черты евреев, которые характерны прежде всего для еврейской буржуазии.

"Литературная газета" общественно-политический еженедельник Главный редактор "Литературной газеты" Поляков Юрий Михайлович http://www.lgz.ru/.

«Почему я собираюсь записать сейчас свои воспоминания о покойном Леониде Николаевиче Андрееве? Есть ли у меня такие воспоминания, которые стоило бы сообщать?Работали ли мы вместе с ним над чем-нибудь? – Никогда. Часто мы встречались? – Нет, очень редко. Были у нас значительные разговоры? – Был один, но этот разговор очень мало касался обоих нас и имел окончание трагикомическое, а пожалуй, и просто водевильное, так что о нем не хочется вспоминать…».

Деятельность «общественников» широко освещается прессой, но о многих фактах, скрытых от глаз широких кругов или оставшихся в тени, рассказывается впервые. Например, за что Леонид Рошаль объявил войну Минздраву или как игорная мафия угрожала Карену Шахназарову и Александру Калягину? Зачем Николай Сванидзе, рискуя жизнью, вел переговоры с разъяренными омоновцами и как российские наблюдатели повлияли на выборы Президента Украины?Новое развитие в книге получили такие громкие дела, как конфликт в Южном Бутове, трагедия рядового Андрея Сычева, движение в защиту алтайского водителя Олега Щербинского и другие.

Курская магнитная аномалия — величайший железорудный бассейн планеты. Заинтересованное внимание читателей привлекают и по-своему драматическая история КМА, и бурный размах строительства гигантского промышленного комплекса в сердце Российской Федерации.Писатель Георгий Кублицкий рассказывает о многих сторонах жизни и быта горняцких городов, о гигантских карьерах, где работают машины, рожденные научно-технической революцией, о делах и героях рудного бассейна.
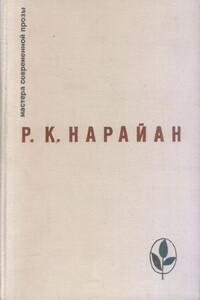
Свободные раздумья на избранную тему, сатирические гротески, лирические зарисовки — эссе Нарайана широко разнообразят каноны жанра. Почти во всех эссе проявляется характерная черта сатирического дарования писателя — остро подмечая несообразности и пороки нашего времени, он умеет легким смещением акцентов и утрировкой доводить их до полного абсурда.