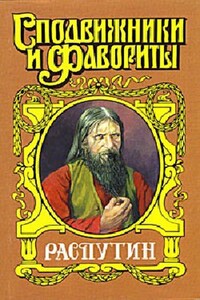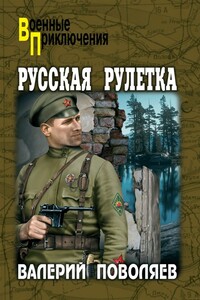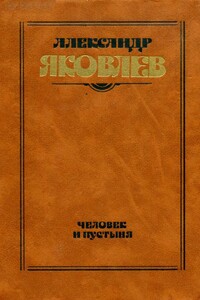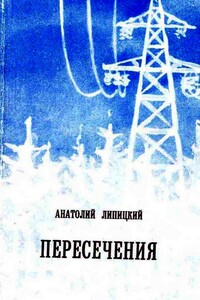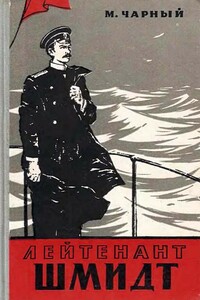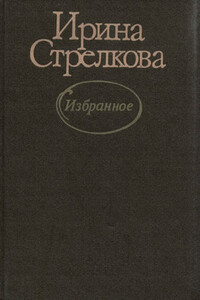— С-сука, — незнакомым голосом проговорил Кит, — сколек из-за него... С-сука! А мы-то... Мы-то чуть не поседели...
Лящук шевельнулся, сглотнул мокрушный, пополам с сукровицей ком, уперся руками в ребровину дна, сел. Посмотрел на подплывающего Мазина, облизал деревянным языком губы. Подумал неожиданно ясно, спокойно: «Все хорошо, что хорошо кончается. Но кончается ли? Может, только начинается. Может, Кит прав, может, Мазину надо надавать по морде? А за что, собственно? Вспомни, ведь ты же сам хотел, чтобы Мазин испугался и не полез в этот трюм, и, если бы он не залез, ты бы навсегда запрезирал его, и в воду вторым конечно же полез бы Кит, и тогда бы он обязательно оказался захлопнутым в трюме, в мрачной темноте, и весь кавардак вертелся бы тогда вокруг него, а не вокруг Мазина. Бить не за что. Правильно, не за что. А потом, камарад Лящук, добрее надо быть, добрее... Почаще улыбаться надо. Эх, Сазоныча бы сейчас сюда, он сразу бы разобрался в том, кто виноват и кто прав, и тогда бы все стало на свои места. Но Сазоныч будет только двадцатого, и наверное, не днем, а вечером — значит, почти что двадцать первого, — так что до Сазоныча далеко, как до самого бога...»
Мазин подплыл к челноку и, «стоя» в воде на ластах, показал, гордо держа перед собой, две здоровенные, конопатые, усеянные морской гречкой и желудями ракушки, донельзя облипшие, все в грязной донной поросли, положил их к Варвариным ногам, стянул с лица маску, бросил на дно, потом сдернул с плеч железные бидоны акваланга, стригнул ногами, отталкиваясь от воды, влез в челнок. Он, видать, ничего не знал, он совершенно ничего не знал, он, ей-богу, выплывал не сквозь трюмную прорезь, а через торпедную пробоину в борту («торпедой стрельнули и уложили на грунт» — так ведь, кажется, сказал рыбак), на щеках Мазина рдели здоровяческие яблоки, глаза посверкивали лучиками: ведь вон какие две ракушки извлек со дна морского, из трюма, из ничего, из небытия, — герой! — хорошую памятку о юге, о коктебельском море и горах заполучил. Мазин еще ничего не успел сказать — он оттягивал тронную речь, ждал, когда все насладятся его триумфом, в полную меру разглядят королевскую добычу, как Кит вдруг коротко, снизу, сипло крякнув, ударил Мазина под ложечку, а потом наотмашь, но уже несильно, треснул его тыльной стороной ладони по губам. Мазин грузно громыхнулся на дно челнока и, зажав пальцами нос, из которого не замедлила брызнуть юшка, остро и недоуменно, с неосознанной болью взглянул на Кита. Кит поболтал кулаком в воде, обмывая, отер его о грудь.
— Это в честь спасенья твоего, — сказал он, — чтоб знал, с кем живешь, паря, чтоб ценил люд не менее себя. Понял?
Мазин молчал. И все тоже молчали.
— Теперь глянь за борт, — приказал Кит.
Мазин застонал, перемещаясь по дну челнока — видно, первый удар Кита был больным, — подбородком зацепился за борт, подтянулся, как паралитик, вгляделся в воду. Глаза у него побелели, словно выварились, подернулись слепой белесой пленкой. Он еще долго не мог прийти в себя, долго ничего не мог произнести. В заключение прошептал машинальное, бесконтрольно слезшее с языка:
— Мамочки!
Двадцатого, вечером, приехал Сазоныч. Шумный, радостный, он с гусиным гоготом обнял всех, расцеловал, за ужином удивился, откуда у «гавриков» коньяк, но никто ему ничего не сказал, а настаивать Сазоныч не стал. Не в его было правилах. Это была одна из черт, за которую, кстати, подчиненные любили своего руководителя. Коньяк оказался вкусным, и его растянули на целых три дня.
Вскоре они снялись всей командой с насиженного берега и укатили из Коктебеля в Мисхор.
О шхуне больше не вспоминали. Только Варвара изредка очень сердито и очень серьезно смотрела на Мазина, потом сожалеюще оглядывала Лящука, и оба они съеживались от взгляда, вбирали головы в плечи. Шансов на Варвару ни у того, ни у другого не было никаких, так как Варвара по-настоящему и, видно, надолго влюбилась в Кита. А Кит был по-прежнему равнодушен и молчалив. Кит был «вещью в себе».
Но это уже другая история...