Кодекс Гибели, написанный Им Самим - [2]
Мы можем сказать, что азиат выглядел вполне благопристойно. Маленький женя, конечно же, вспоминает гегеля: человечество делится на людей и на славян. Каждый вечер, поясняет он, я приносил свою похоть домой, как лисенка. Где еще познакомиться? Только лишь на танцах. Но там уже стыдно быть тридцатилетним. Мы соприкоснулись невзначай на барахолке. Я заведомо снял бинты, чтобы казаться проще. Трудно поверить, но он торговал потертой тужуркой со следами мела. Это был классический случай нищего, столь занимающий нас у марка твена. Я узнал в прорехах нужное. Мы сговорились пойти в нехороший кинотеатр. Там, на груде тряпья, произошло следующее: он вынудил меня облизывать песочный кулак, перемазанный горчицей. Горчицей? — переспрашивает сережа. Да, это была игра: купец и половой, слюда и гравий. Парню нельзя было отказать в азиатской изысканности. Все происходило в полумраке, под угрожающий шум крутившейся на экране конницы. Когда соитие состоялось, он потребовал ровным и жестоким голосом, чтобы я компенсировал потерянную на барахолке прибыль. Мне пришлось выгребать стыдную мелочь, и, пока я не распростился с последним, он не ушел. Стоял и смотрел на меня, как матрос, подпаливший барскую усадьбу. Я думал, что отдам все, чтобы приручить его, унизить, развратить подачками, превратить в маргаритку, заставить танцевать перед гадкими гостями, обезобразить ему плечи и бедра бесчестными наколками. Это была мелкая, но испепеляющая мысль, которую условно можно было бы сопоставить с раскаленной пуповиной. В конце концов, от меня и так оставались одни скорлупки, полные раскаяния. И если пыл наших сообщений — попытка избежать гибели, то все обречено, и каждый, даже илья, это знает. Помилуй, откликается илья, это всего лишь семинар, стоит ли затевать сон в летн__юю ноч_ь? В том или ином смысле каждый из нас живет прошлым, но это не означает, что будущего вовсе нет. Скажем, мы с германом могли бы провести тот же самый эксперимент с горчицей. Тет-а-тет или отыскать для этой нужды продажного юношу в привокзальной луже. Не встретить слепца, не встретить горбунов. Скажем, это произойдет в подвале, похожем на заброшенный спортивный зал, где заметны руины шведской стенки, окаймленные вьюном, на полу валяются детали разобранного тренажера, лежат забытые в панике боксерские трусы, а в центре высится колонна, подпирающая мировые своды. Колонну эту не назовешь громоздкой или же, напротив, субтильной — она скорее, похожа на черную трубу, уходящую в неинтересную высь. Пейзаж без декоративных излишеств, без фиников, боярышника и мака. Papnor. Разве что можно предположить перекинувшийся на нее от шведской стенки вьюн — сорняки неприхотливы, тем паче когда все отсырело. Можно даже вообразить колонну белой, но это увлекло бы нас в сторону ложных чувств, слюды и асбеста. Что же романтичного можно найти в игре «купец и половой» с купленным на вокзале юношей? Так что колонна непременно должна быть черной или даже откровенно железной и ржавой, и никакому вьюну не скрыть ее бедного первородства. Напротив, нищета декораций должна подчеркивать прелесть наших пьяных и несвежих тел. Тело умирает первым, а все остальное еще какое-то время копошится. Мы все знаем это правило достоевского: сорок лет — предел для приличного человека. В кодексе гибели оно отмечено, как золотое сечение бытия. Отчего же, — спорит сережа, — чистоплотная старость, воодушевленная молодой спермой — это вариант, от которого не стоит отказываться априори. Мы можем представить себе академика, который делит кров с умным студентом: смятение чувств. Вот их нежный быт: разговоры о прочитанном, совместные походы на выставки и концерты, чаепитие по вечерам, моцарт, глоток мальвазии перед сном. Академик рационален и жесток — в спальне спрятана плетка, под подушкой стынут оковы. Утром горячая вода щиплет свежие раны, и студент, фантазируя, рукоблудит в ванной. Мы не должны воображать унылый симбиоз чахлых книгочеев. Студент, как и положено в его годы, пинает обугленный мяч, профессор по воскресеньям ходит на теннисный корт, и седые волосы взмокают от пота на его цементной груди. Летом — походы, аборигены принимают их за отца и сына. Мы можем вообразить, как они любят друг друга у костра: в котелке бурлит баранина, и стоны истязаемого перекатываются над дурацким озером. Что же, старость всегда пародийна, констатирует роберт, и, очевидно, iabes не предвидел, что глиняный человек с помощью всяких пилюль и припарок сможет протянуть столько лет. Cicle! Cicle! Разбить, расколоть, свалиться в ров, полный ржавых консервных банок. Пожалуй, стоит остановиться на золотом сечении бытия, а непокорных стирать в серые клочья. Да и что может быть заманчивей добровольного ухода из жизни? — вторит илья. Все, о чем не желаешь думать, сбывается. И можно ли быть оптимистом, размышляет академик, если жизнь есть движение от лучшего к худшему, если она завершается старостью и смертью? Если бы можно было наложить на себя руки еще там, у озера, умереть, нарвавшись впотьмах на коварный сук или от судороги в холодной воде или глотнув гельвеловой кислоты, легкой, как утренний тюль. И чтобы вадик тоже умер коротко и незаметно. А он живет зачем-то и даже выступает с докладами, был на конференции в будапеште и наверняка ебался с кем-то, не исключено, что с венгром. А ведь к ночному костру могли прийти хулиганы из деревенских и забить нас велосипедными цепями. Нет, думает академик, это пора прекращать. Существует вероятность, отмечает павел сергеевич, что человеческий гений сохраняется неизменно — для удобства мы можем представить его в виде плотного шара, которой угрожающе катится по сельской дорожке. Редкие элементы расплющенной флоры произвольно пристают к его бокам. Возможно проникновение муравьев и иных подручных букашек. Здесь, где была навсегда растерзана индонезия. Когда я познакомился с серьезным юношей, умирающим от лихорадки, я подумал — а вдруг и он окажется на этой тропе. Сама эта мысль может представлять опасность, уточняет роберт. Вот именно, продолжает павел сергеевич, поэтому я и прикоснулся к узкому запястью в знак прощания, а потом тяжко тер оскверненную руку грубой щеткой. Шар прокатился мимо, надеялся я. С трудом удалось побороть хитрое желание — пригласить безнадежного юношу в синема и в темноте дотронуться до его колена, а при следующей встрече — поощрительно потрепать по щеке или даже поцеловать. Так могла бы образоваться темная игра с лихорадкой. Возможно, она насытила бы меня до конца истекающей жизни, как африканский жасмин. Ты ловишь его, ловишь, а он уже стоит за дверью, улыбается, протягивает руки: согласен, согласен. Я представил себе графин с робкой трещиной, из которого по мере сил изливается содержимое. И вот выдернута пробка, и графин дерзко перевёрнут. Шьется ли мой саван просто так или есть и для него своя ничтожная выкройка? Однажды мне приснилось следующее, рассказывает илья, мы сидели за грубо сколоченным столом, и я заметил, что обшарпанная ножка усеяна мелкими гвоздями и кнопками. Некоторые были забиты не до конца и торчали опасно. Вы знаете кто этот юноша? — шепнул мне сережа, — это племянник дантона. Он сказал именно «дантона», но я понял, что он имеет в виду убийцу. Да, я — племянник, не без гордости подтвердил красавец, приветливо протянул горячую ладонь. Это будет замечательный эпизод, решил я, переспать с племянником злодея. Статуи дрогнули. Чудное движение клинком в тесную стаю русских свиней, теребящих покойника. А не был ли и тот негр в амстердаме русским баснописцем? — догадывается роберт. — Наверняка ты об этом подумал. Нет, бегло отрицает илья, но на этот раз не знаю, что прельстило меня больше — красота чужеземного гостя или надежда косвенно породниться с убийцей. Это правда, что ваш дядя был наложником этого барона, голландского посла? — сделал я первый заход. Потом мы стали совокупляться — прямо за столом, и перед глазами прытко мелькали разгневанные гвозди и кнопки. Почему же сережа сказал «дантон»? — интересуется маленький женя. Потому что не хотел произносить тайное имя вслух, понимал, что я и так догадаюсь, — поразмыслив, объясняет илья. — Кто мне дантон? А д-с, он ведь у каждого в сердце. Мы представляем их веселые отношения с низоземцем, розыгрыши, которые они придумывают для раболепных славянских болванов, занятные хлопоты об усыновлении, насмешки над смердящей знатью, дуэль с зарвавшимся клерком, похожим на пылкую обезьянку. Расковырять шомполом рану, присыпать перцем. Набить морошки в глотку. Не отходя на от черной речки хуанхэ. Растоптать клобук! Растоптать клобук! Изгваздать порфиру! Нашпиговать занозами, как перепелку. Измудохать до костной муки. И наконец, благополучное возвращение в сульц. Мы можем вообразить их первую встречу на постоялом дворе, игру взглядов, знакомство, несметные талеры, посыпавшиеся на хитрого мальчишку. Еблись ли они в кибитке за спиной мезозойского ямщика, елозящего по волжским степям и взгорьям? Хочется думать, что еблись. Запятнанная медвежья полость, золото манжет, либеральный террор. Но не исключен и иной вариант: д-с держит барона на фланелевом поводке, играет с ним в трик-трак, отделываясь сиротскими поцелуями. Но, будем думать, всё завершилось к удовольствию обоих, а если и нет — что нам до них? Впрочем, что имеет значение? — говорит маленький женя. Да ровным счетом ничего. Кроме, разумеется, гибели. Будь это гибель от укуса тарантула, от падения из окна, от проказы, от переохлаждения, от дротика, от инфаркта, от удушья, от заворота кишок, от чумы, от множественных кровоизлияний, от солнечного удара. От страха, наконец. Мы готовы поверить даже в гибель от раздражения, пьянства, рукоблудия, лени и скуки. Главная задача погибающего — добиться депортации трупа на волю. Быть погребенным здесь, где ад выступает из пор, — можно ли отыскать участь постыднее? Всё, о чем мы способны мечтать на смертном ложе — это радушная немецкая земля, швейцарские пастбища, красные пески невады, водопады патагонии. В мире немало пристойных мест, — утверждает илья, — и не нужны нам вовсе: смерзшийся грунт, кража венка, перевернутый пьяным трактористом надгробный камень, яичная шелуха и тощие пробки на раскисшем снегу. Погибнуть в объятьях племянника д-са, спартака, принца и нищего, даже амстердамского негра. Умереть в заброшенном спортзале возле оплетенной диким вьюном шведской стенки. Умереть, пока перед распаленным взором скачут шурупы и кнопки. Умереть, глядя на растерзанные плоды граната на оловянном блюде. Или в писсуаре на 129-м километре автобана карлсруе-нюрнберг. А лучше всего — выстрелив в цементную грудь в день многолетия. Или даже отыскав для этой цели наемника в алом парике. Парня с проветренными пальцами, живущего в крахмальной избушке. Хоронзон, зззззззз. Мы познакомились возле конной статуи и отправились к нему. Игорь! «Инженер», представился он. И ты ходишь на работу каждый день? — спрашивал я брезгливо. Когда оказалось, что мы не знаем, как взять друг друга, я попросил рассержено: историю, расскажи мне историю. Я напечатаю ее в журнале «Русское возрождение» (у него совсем не стоял). Мой старший брат служил извозчиком в монастыре, — покорно рассказывал игорь, — и вот однажды в заброшенной часовне он заметил мертвое лицо. Оно пялилось из слюдяного оконца и малокровно вопило. Это, по всей видимости, был призрак — однажды пожилой монах возжелал слабоумного пастушка, а тот распорол ему брюхо свирелью. Несчастный старик с тех пор привидением бродит по часовне. И мой брат, извозчик, говорил, что однажды он неслышно прокричал сорок раз. Что же он кричал? А! — кричал он — а! Русские свиньи, не хороните меня в отравленной вашей земле, я хочу упокоиться во льдах невады, в родниках сингапура, в окопах килиманджаро, только не здесь. Вот что он кричал. И часовня содрогалась от его отчаяния. А! — кричал он — а!а!а!а!а!а!а!а!а!а!а!а!а! а!а!а!а!а!а!а!а!а!а!а таким образом, инженер подсказал мне ответ на главный вопрос: что мучает покойника. И лишь потом, познакомившись с кодексом гибели, я узнал это душераздирающее правило: добивайтесь, чтобы вас не хоронили в русской земле, ибо в проклятой яме не будет покоя. Каждый день ад прорастает на миллиметр, пропекает слабые кости. Но если, спрашивает роберт, судьба обернется так, что ужас и стыд захотят разорвать нас на части прямо здесь? Однажды во сне я очутился в берлине. (Это мерзость! мерзость! Это ведь у вас человеческая кожа!). Мы спускались по неочевидной лестнице в бездну. Объявили конкурс на лучшее тело. Стая мальчиков в первобытных трусах крутилась на взрывоопасном подиуме. Юные и пожилые покупатели с лупами и биноклями, стеками и хлыстами перешептывались, разглядывая экспонаты. Спускалась ночь. Кем был я — покупателем или товаром, садовником или цветком. Что хотел от меня мой зыбкий спутник. Почему я оказался бесплотным воробьем на этой сверкающей ярмарке. Почему никто не спросил, появился ли у меня пропуск. Отчего при моем появлении все расступались. Мерцает только один ответ: я был избран, чтобы рассказать миру главную тайну, освободить от ветоши и стружек застенчивую пружину бытия. Мы все избраны, — говорит илья. В той или иной степени, — добавляет роберт. Не на всю жизнь, а на редкие минуты, когда о нашем существовании вспоминают, — думает павел сергеевич. Для нас судьба намеренно сжимает время, — убежден маленький женя, — кто теперь способен дожить до магаданской старости? Мы должны вспыхивать и осыпаться, как хризантемы. Оттого нам разрешено не бояться гибели, думать о ней ежесекундно, носить зловещую мысль в бархатном наперстке. Ковчег пристрастий. Мы обречены ездить из нюрнберга в карлсруе и застывать на 129-м километре. Нам приходится кричать в покосившейся часовне, нас хотят нюхать и гладить, нас бросают в бочки с мазутом, нас облизывают и осыпают мишурой. Мы скоротечно бренчим на арфе виньеток. Мы — мировой пустяк. И вскоре не останется никого, только мы, участники семинара, — павел сергеевич, роберт, илья, сережа и я. Адское пламя искренне оближет наши кроткие лепестки, душный ветер возьмется переплетать траурные ленты. «Дорогой друг. Среди прочего мне снятся бесчисленные подвалы. Теплые статуи выскальзывают из каморок, тянутся ко мне, падают попеременно. Гадалка утверждает, что я переживаю особый тайный надлом: жизнь вот-вот повернется неслыханной гранью. Я же полагаю, что всё кончено. Кто прав? Возможно, я усну и не проснусь. Возможно, надо мной надругаются враги. Я могу даже представить безобразные пытки, вонючий холод камеры, вызовы к бархатному следователю, расстрел. Я могу попасть в аравийскую пустыню, влюбиться в бродячего акробата, стать заступником слабых и обиженных. Я могу сделать обрезание. Iehusoz! Кругом извиваются возможности. Отчего же я хожу на этот скоротечный семинар? Ведь я знаю: вот-вот произойдет самое главное, волшебство изменит сонную мою жизнь, в кодексе гибели откроется неистовая страница, и я смогу записать нечто победитовым пером. Звезды подают мне сигналы. Океан посылает брызги. Ночью я выхожу на террасу и смотрю, как перемигиваются фонари на диких кораблях. Всё начинается в шипящих искрах. Возможно, я даже чувствую прикосновение правильной руки». Это письмо было написано на рисовой бумаге и его полагалось съесть.

История жизни одного художника, живущего в мегаполисе и пытающегося справиться с трудностями, которые встают у него на пути и одна за другой пытаются сломать его. Но продолжая идти вперёд, он создаёт новые картины, влюбляется и борется против всего мира, шаг за шагом приближаясь к своему шедевру, который должен перевернуть всё представление о новом искусстве…Содержит нецензурную брань.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
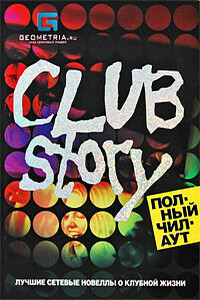
Согласитесь, до чего же интересно проснуться днем и вспомнить все творившееся ночью... Что чувствует женатый человек, обнаружив в кармане брюк женские трусики? Почему утром ты навсегда отказываешься от того, кто еще ночью казался тебе ангелом? И что же нужно сделать, чтобы дверь клубного туалета в Петербурге привела прямиком в Сан-Франциско?..Клубы: пафосные столичные, тихие провинциальные, полулегальные подвальные, закрытые для посторонних, открытые для всех, хаус– и рок-... Все их объединяет особая атмосфера – ночной тусовочной жизни.
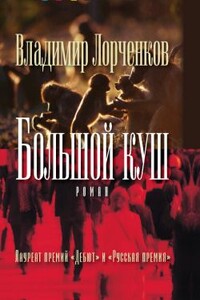
В новом романе Владимира Лорченкова действуют персонажи Диснейленда, но под их костюмами совсем не видно, что Снуппи-Дог – старый подагрик, Белоснежка – глупая старшеклассница, Крошка Енот – тридцатилетний неудачник, а деловая Матушка Енотиха твердо решила занять место директора парка и сорвать куш…

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.