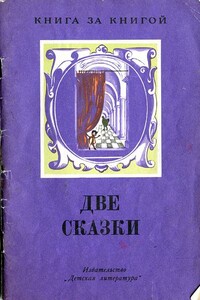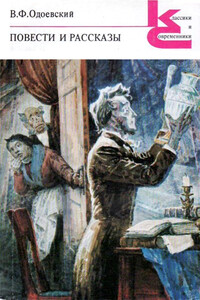– Comment donc! nous lui ferons rendre, gorge mordicus![6]
Один мой приятель сделал очень глубокомысленное замечание, а именно: что есть люди, которые очень умны, когда говорят по-французски, и делаются невыразимо пошлы и глупы, как скоро заговорят по-русски. Это довольно странно, но справедливо и понятно. Мы учимся не языку, но только заучиваем тысячи фраз, сказанных на этом языке умными людьми; говорить хорошо по-французски – значит повторять эти тысячи готовых фраз; эти фразы и мешают мыслям и избавляют от своих собственных; вы слушаете, чужой ум выглядывает из болтовни, обманывает вас: кажется – дело, переведите по-русски – пустошь, ни к селу ни к городу. Князь принадлежал к числу таких людей. Едва ввалился он в гостиные, как посыпались к нему со всех сторон нарекания на Зинаиду; добрый князь обомлел. Едва заговорил он по-русски с деловыми людьми, как и совсем потерялся: в голове его осталось только одно, что племянница его играет самую смешную, самую неприличную ролю – un role ridicule et peu convenable![7]
Князь счел долгом принять на себя достойный вид старшего родственника и, положив одну ногу на другую, преподать княжне нужные, спасительные советы самым чистым парижским наречием, с заветными поговорками и с особенною интонациею, которая так несносно скучна в разговоре и природных французов.
Хотя он с княжною говорил и по-французски, следственно очень умно, но не убедил ее; она продолжала начатое, и в гостиных явился ее новый гонитель – ее собственный дядя: он пожимал плечами, поутру уверял встречного и поперечного, что он в этом деле умывает руки, а вечером, вздыхая, ездил смотреть французские водевили.
Однажды к княжне Зинаиде явился ее стряпчий.
– Ваше сиятельство, – сказал он, – вам остается теперь одно: очистительная присяга, – и я долгом считаю вас уведомить, что ваш соперник, говоря, что для детей отец должен на все решиться, не прочь от такой присяги.
– Что такое очистительная присяга?
– Вы должны будете идти с большой церемонией в церковь и публично присягать в истине вашего показания касательно безденежности заемных писем…
Княжна окаменела при таком известии. Это было слишком!
Но твердость ее не оставила; она готова была принести и эту жертву любимому ей ребенку, но ее спасло одно из тех нечаянных происшествий, которые неправдоподобны, но очень просто разрешают, по воле провидения, самые трудные задачи. Городкова разбили лошади – и он умер. При последнем издыхании он не хотел или не успел испросить прощения Зинаиды.
Смерть Городкова возвратила все права несчастной девушке над ее племянницею. Она взяла ее к себе, не выходит замуж и все минуты жизни посвящает на ее воспитание: а в гостиных толкуют, что она, расстроив свое семейство, теперь надела маску и играет роль нежной родственницы, чтобы прикрыть старые грехи и между тем воспользоваться имением племянницы.
– Вот что я узнал, – продолжал мой приятель, – от Марьи Ивановны. Разумеется, она рассказывала все это короче, нежели как я тебе сказываю. Но ты человек аккуратный – тебе надобно было знать все подробности. Этот рассказ возбудил во мне сильное любопытство познакомиться с столь необыкновенною женщиною, которая в малом семейном круге умела показать более благородства и твердости души, нежели многие мужчины на поприщах более возвышенных.
У графини Дарфельд бывали по вторникам маскарады. В тогдашнюю зиму на маскарады была мода; все рядились, мистифировали друг друга, танцевали и волочились без ума; под снега севера перенеслись все обольстительные прелести старинных итальянских маскарадов.
Однажды я с любопытством осматривал пестрый мир, вертевшийся вокруг меня, и почти с досадой отгрызался от масок, которые не давали мне покоя. «Княжна Зизи здесь», – сказал кто-то за мною. «Где? где?» – спросил другой. «Вот сидит в зеленом домино; моя племянница с нею».
Этого разговора с меня было довольно; я отправился к зеленому домино… В жизни я не видывал такой стройной талии, таких прекрасных ножек, которые, ты знаешь, в женщине для меня – почти все; из-под капюшона были видны знакомые мне черные, мелкие кудри, а в отверстиях маски горели живые, блестящие глаза.
– Позвольте мне вас мистифировать, – сказал я, – хотя я и без маски.
Я сел подле княжны и ни с того ни с сего принялся рассказывать ей всю ее историю со всеми подробностями. Княжна была встревожена моим рассказом; но участие в ней, уважение к ее подвигу, которым дышало каждое мое слово, ее тронуло. Когда я окончил, она мне сказала.
– Благодарю вас; вы мне доставили первое наслаждение в жизни: видеть, что клевета не совсем могла очернить меня и что есть люди, убежденные в чистоте моего сердца.
На следующий вторник мы встретились уже как знакомые. Разговор княжны был жив, умен и занимателен, я не замечал, как проходили часы и как посматривали на нас любопытные.
На третий вторник я счел уже нужным также нарядиться в домино, чтобы спокойнее говорить с княжною…
Что тебе рассказывать! Чрез несколько времени быть с княжною сделалось для меня необходимостию; тщетно я искал ее в гостиных: она выезжала только в маскарады – без домино она боялась показываться в свете и сначала лишь под маскою хотела к нему привыкнуть.