Книги нашего детства - [15]
Еще за четыре года до мировой войны Чуковский противопоставлял военизированному «Задушевному слову» детский журнал «Маяк», «где твердят и твердят о том, что война есть самое ужасное дело», что «сами люди не хотят ее». Критик пылко присоединялся к пожеланию «Маяка», «чтобы великая мысль, великая изобретательность человека послужила на благо всему человечеству, а не на забаву отдельным богатым людям и тем более не для ужасного дела войны, убийства одних людей такими же людьми»[45].
Чуковский всем сердцем сочувствовал этим идеям, и только одно не устраивало его: журнальчик был скучноват. А вот московский «Путеводный огонек» — «не журнал, а как будто карусель: все кружится и мелькает в глазах. Сказочки, прибаутки, раскрашенные картинки»[46]. И приложение к нему — «Светлячок» — тоже хотя и не шедевр, но очень милый журнальчик: у него и «язык нарочито детский, кудрявый, игривый».
Одни достоинства у одного журнала, другие — у другого. «И вот мне приходит мысль: а что, если вместе связать этот маститый „Маяк“ с удалым залихватским „Светлячком“? Пускай бы дал „Светлячок“ „Маяку“ все свое ухарство, все свои блестки и краски, а „Маяк“ пускай даст „Светлячку“ свои „идеи“ и „чувства“»[47]. Неизвестно, воспользовался ли кто-нибудь этим предложением Чуковского, но сам-то он точно им воспользовался. Своим «Крокодилом» он осуществил этот синтез: связал ухарство и блестки с гуманистическими антивоенными идеями.
«Крокодил» — поэтический «декрет о мире» для детей. Детская сказка в стихах, помимо прочих причин, была вызвана к жизни тем, что давала возможность Чуковскому ни в чем «не отступаться от лица», не изменять своим антимилитаристским убеждениям, а изменить только жанр, и в нем, новом, говорить все то же, сохраняя неуязвимость среди разгула военной пропаганды. Менялись лишь «средства доставки» — доставляемый груз и конечные цели оставались прежними.
Поэтому, справедливо полагал Чуковский, если отбросить нелепые и произвольные истолкования и «прислушаться к мнению миллионов читателей, придется признать, что «Крокодил» — нисколько не хуже других моих сказок, что и в нем, как в «Мойдодыре» и «Федорином горе», никаких аллегорий нет. Это простодушная детская сказка, не лишенная героического пафоса, ибо в ней маленький Ваня бесстрашно встает на защиту обиженных:
И в то же время — стремление к миру и братству:
Разумеется, Чуковский написал свою сказку потому, что хотел разрушить каноны ненавистной ему мещанской детской литературы. Возможно, он написал эту сказку потому, что Горький «подсказал» ему замысел большой поэтической формы наподобие «Конька-Горбунка», только из современного быта. Конечно, он стал импровизировать строки «Крокодила» потому, что нужно было отвлечь заболевшего ребенка от приступа его болезни. Очевидно, что, погруженный в культурологическую проблематику, он не мог уйти от нее в образах и структуре своей сказки. Мы видели, что и всем своим предыдущим развитием он был хорошо подготовлен к творческому акту создания стихотворной сказки-поэмы для детей.
Но именно потому нельзя считать случайным и тот факт, что совершенно новый для Чуковского жанр, вобравший в себя ненависть к проклятой войне и страстную жажду всеобщего мира, покоя, счастья, возник в творчестве Чуковского после двух лет мировой войны, в самый канун революции.
«Крокодил» был напечатан впервые в журнальчике «Для детей», во всех его двенадцати номерах за 1917 год. Журнальная публикация сказки перекинулась мостом из старого мира в новый: началась при самодержавном строе, продолжилась между Февралем и Октябрем и завершилась уже при советской власти. Журнальчик «Для детей», похоже, ради «Крокодила» и был создан: 1917 год остался единственным годом его издания.
К концу 1916 года у Чуковского были готовы первая часть сказки и, надо полагать, какие-то — более и менее близкие к завершению — фрагменты второй. Альманах издательства «Парус», для которого предназначалась сказка, был уже скомплектован, но вышел только в 1918 году и под другим названием: «Елка» вместо «Радуги». «Крокодил» в этот альманах не попал. Надеяться на выход второго альманаха при неизданном первом было бы безрассудно. Чуковский пошел к детям и стал читать им сказку.
Он прибег к проверочной «устной публикации». В «Крокодиле» были реализованы представления Чуковского о читательской психологии малых детей — кому же, как не им, детям, принадлежало предпочтительное право высказаться по этому поводу. Высказаться по-своему — внимательной тишиной, смехом, аплодисментами и блеском глаз. По-своему высказалась и взрослая буржуазная публика: «Когда я в 1917 году пошел по детским клубам читать своего „Крокодила“, — мне объявили бойкот!»[49] — писал Чуковский А. Н. Толстому несколько лет спустя.
Во второй половине 1916 года Чуковский предложил свою сказку респектабельному издательству Девриена, которое, помимо прочего, выпускало «подарочные» издания для детей — роскошные тома с золотым обрезом и в тисненых переплетах. Редактор был возмущен: «Это книжка для уличных мальчишек!» — заявил он, возвращая рукопись
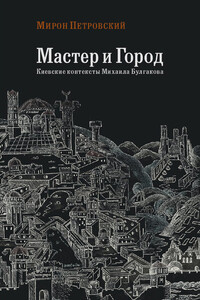
Книга Мирона Петровского «Мастер и Город. Киевские контексты Михаила Булгакова» исследует киевские корни Михаила Булгакова – не в очевид ном биографическом аспекте, а в аспекте творче ском и культурно-педаго гическом. Ее тема – происхождение такого мастера, как Михаил Булгаков, из такого города, каким был Киев на рубеже ХIХ и ХХ столетий. Культура этого города стала для него неисся каемым источником творчества. Перефразируя название книги, популярной в годы юности писателя, книгу М. Петровского можно было бы назвать «Рождение художника из духа города».

Однажды Пушкин в приступе вдохновения рассказал в петербургском салоне историю одного беса, который влюбился в чистую девушку и погубил ее душу наперекор собственной любви. Один молодой честолюбец в тот час подслушал поэта…Вскоре рассказ поэта был опубликован в исковерканном виде в альманахе «Северные цветы на 1829 год» под названием «Уединенный домик на Васильевском».Сто с лишним лет спустя наш современник писатель Анатолий Королев решил переписать опус графомана и хотя бы отчасти реконструировать замысел Пушкина.В книге две части – повесть-реконструкция «Влюбленный бес» и эссе-заключение «Украденный шедевр» – история первого русского плагиата.
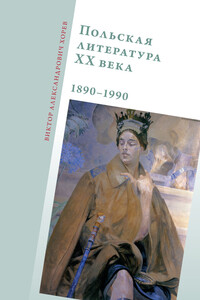
«…В XX веке Польша (как и вся Европа) испытала такие масштабные потрясения, как массовое уничтожение людей в результате кровопролитных мировых и локальных войн, а также господство тоталитарных систем и фиаско исторического эксперимента – построения социализма в Советском Союзе и странах так называемого социалистического лагеря. Итогом этих потрясений стал кризис веры в человеческий разум и мораль, в прогрессивную эволюцию человечества… Именно с отношением к этим потрясениям и, стало быть, с осмыслением главной проблемы человеческого сознания в любую эпоху – места человека в истории, личности в обществе – и связаны, в первую очередь, судьбы европейской культуры и литературы в XX в., в том числе польской».
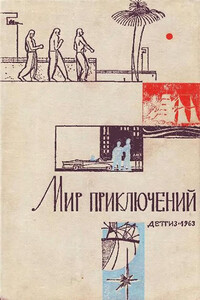
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
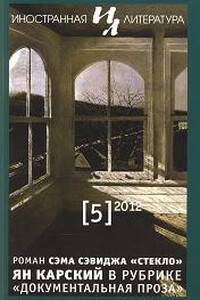
Статья Дмитрия Померанцева «Что в имени тебе моем?» — своего рода некролог Жозе Сарамаго и одновременно рецензия на два его романа («Каин» и «Книга имен»).

В первый раздел тома включены неизвестные художественные и публицистические тексты Достоевского, во втором разделе опубликованы дневники и воспоминания современников (например, дневник жены писателя А. Г. Достоевской), третий раздел составляет обширная публикация "Письма о Достоевском" (1837-1881), в четвёртом разделе помещены разыскания и сообщения (например, о надзоре за Достоевским, отразившемся в документах III Отделения), обзоры материалов, характеризующих влияние Достоевского на западноевропейскую литературу и театр, составляют пятый раздел.
