Книга для... - [12]
Наш столик был уже занят, но возле дальней стены зала был еще один свободный. Присели за него, я спросил Диму, сколько он заплатил за пиво. Отдал ему половину суммы и огляделся по сторонам. После того как прогулялся на свежем воздухе, мне стало гораздо легче. Сейчас в душном помещении хотелось расслабиться и подремать. Я зевнул, взял в руки салфетку и принялся складывать из нее ежика. В этот раз у меня получалось нечто среднее между хомяком и пачкой сигарет, но в глубине души я знал, что это ежик. Просто чуточку видоизмененный. На столе появилась кожаная папка Меню. Руки, которые ее положили, были без колец на пальцах, и мне не пришлось поднимать взгляд, чтобы понять, что это не Юля.
Я стал изучать меню. Полистал, иногда задерживая взгляд на отдельных страницах, вздохнул и перевернул – вверх ногами читать было интересно, но неудобно. Бутерброды, холодные закуски, гарниры, горячие и фирменные блюда, спиртное, пиво, кофе, безалкогольные коктейли, различная мелочь вроде орешков и мороженого, разбитые чашки, тарелки и бокалы. Меня в этом списке ничего не заинтересовало, вернулся к началу и вновь стал перелистывать страницы, на этот раз еще и водя пальцем по строкам. Добрался до разбитой посуды, захлопнул.
Слишком много слов. Цветастые названия и указание веса, подзаголовки курсивом, основные ингредиенты. Неужели нельзя написать на одну страничку несколько стандартных наборов: «пожрать», «нажраться», «отожраться». А тут две страницы посвящены одному только чаю. И все равно, когда меня спрашивают, какой чай буду заказывать, я неизменно говорю не точное название, а пытаюсь дать возможность официанту самому сделать выбор, руководствуясь полунамеками и размытыми описаниями: «Такой, знаете ли, бодрящий, с тропическими нотками, повкуснее и не очень дорогой». Но ко мне редко прислушиваются, а заставляют определиться и выбрать среди всех этих среднеазиатских, крупнолистовых крыльев дракона и грез султана. Причем многие слова в этих названиях вызывают во мне стойкое неприятие. Байховый… При этом вспоминаются грязные байковые одеяла в детском саду, отсутствие туалетной бумаги в детсадовском туалете и жуткий чай в детсадовской столовой. Гранулированный… Словно на руках чувствую красноватую пыль от керамзита, которого было полным полно в моем дворе, когда я был маленьким.
Много слов в меню, много слов в диалогах, много слов. Смысла гораздо меньше, он прячется между словами, переливается в их сочетаниях, втискивается между строк. Чем больше слов пишешь или произносишь, тем сильнее у читателя или слушателя ощущение вторичности, плагиата. «Я это где-то уже слышал», «в одной книге об этом уже писали», «не ты первый, кто мне это говорит». Но, в сущности, ведь все слова взяты из словаря, стало быть, комбинируя их на протяжении сотен лет, человечество усложнило задачу сказать что-то новое. А даже если и придумать новое слово – все буквы в нем будут из алфавита, который мы изучили давным-давно. Несколько десятков букв, семь нот, три цвета. Придумывать новое или, наоборот, сократить количество старого? Не удалять отдельные категории подобно Оруэлловскому «новоязу», а просто найти слова, которые можно запросто выразить через сочетания других. Очистить хотя бы родной язык. Вернуться к ЭВМ вместо компьютеров и управляющим вместо менеджеров.
И вдруг я совершенно четко представил свой алфавит – алфавит, в котором было бы всего три буквы. И этого было бы достаточно. Она сидит за партой в пустом классе, вхожу я и мелом на ослепительно черной доске пишу эти три буквы. «Э», «Ю», «Я».
«Э» – Эго, фактически синоним «Я». А между ними… Ну, примерно вот так это будет выглядеть.
Э (эго)
Ю (you; ты)
Я (я).
И Она бы моментально все поняла. Без слов. Всего три буквы.
Но больше всего меня разрушало то, что этот трехбуквенный мир существовал. В перспективе. Потенциальной возможности. В каждой строчке наших писем друг другу ждал своего появления не свет. Улыбался нам из будущего и заставлял в себя верить. А сегодня утром неожиданно вспыхнул, и огонь его вычернил сажей в моем личном словаре три слова. Три слова боли, три дочери смертельного больного отца. Слова, в которых этой боли больше, чем в их тираническом родителе, осквернившем когда-то Мудрость. Вера. Надежда. Любовь. Чем краше каждая из них, тем больше в чертах их лиц отцовских болячек. Он немощен и однолик, они величественны и смертельны. Вера. Надежда. Любовь. Вгрызались в тело и душу, заставляя думать только о Ней, упивались моим слабым попыткам отогнать их взмахом руки. Терзали мои мысли, вырывали меня из меня и возвращали, преднамеренно беспорядочно разбрасывая части меня. Улыбались, сидя у изголовья моей постели, мирно улыбались. Я целовал им руки, вставал перед ними на колени. Они прикладывали ладони к моей голове и вдруг плевали в нее Боль. Валили на пол, душили и насиловали. Жестоко и медленно. Чтобы было больнее. Я не прятался от них. Я сам их звал, чтобы выставить на бой против них последнего воина. Сильного и ловкого. Наивного и немного стеснительного.
Он приходил ко мне в тот единственный час ночного сна, когда я отключался от боли, и охранял мое крепкое забытье. Его глаза пылали ненавистью к Вере, Надежде и Любви. На его щеках горел румянец юности. Он был молод, но обречен на победу. И имя ему – Знание.

Иван Габай (род. в 1943 г.) — молодой словацкий прозаик. Герои его произведений — жители южнословацких деревень. Автор рассказывает об их нелегком труде, суровых и радостных буднях, о соперничестве старого и нового в сознании и быте. Рассказы писателя отличаются глубокой поэтичностью и сочным народным юмором.

Героиня романа – женщина, рожденная в 1977 году от брака советской гражданки и кубинца. Брак распадается. Небольшая семья, состоящая из женщин разного возраста, проживает в ленинградской коммунальной квартире с ее особенностями быта. Описан переход от коммунистического строя к капиталистическому в микросоциуме. Герои борются за выживание после распада Советского Союза, а также за право проживать на отдельной жилплощади в период приватизации жилья. Старшие члены семьи погибают. Действие разворачивается как чередование воспоминаний и дневниковых записей текущего времени.

Герой романа, как это часто бывает в антиутопиях, больше не может служить винтиком тоталитарной машины и бросает ей вызов. Триггером для метаморфозы его характера становится коллекция старых писем, которую он случайно спасает. Письма подлинные.

Четвертая книга монументального автобиографического цикла Карла Уве Кнаусгора «Моя борьба» рассказывает о юности главного героя и начале его писательского пути. Карлу Уве восемнадцать, он только что окончил гимназию, но получать высшее образование не намерен. Он хочет писать. В голове клубится множество замыслов, они так и рвутся на бумагу. Но, чтобы посвятить себя этому занятию, нужны деньги и свободное время. Он устраивается школьным учителем в маленькую рыбацкую деревню на севере Норвегии. Работа не очень ему нравится, деревенская атмосфера — еще меньше.

В книге описываются события жизни одинокой, престарелой Изольды Матвеевны, живущей в большом городе на пятом этаже этаже многоквартирного дома в наше время. Изольда Матвеевна, по мнению соседей, участкового полицейского и батюшки, «немного того» – совершает нелепые и откровенно хулиганские поступки, разводит в квартире кошек, вредничает и капризничает. Но внезапно читателю открывается, что сердце у нее розовое, как у рисованных котят на дурацких детских открытках. Нет, не красное – розовое. Она подружилась с пятилетним мальчиком, у которого умерла мать.
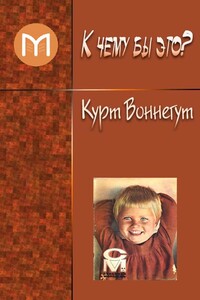
Папа с мамой ушли в кино, оставив семилетнего Поля одного в квартире. А в это время по соседству разгорелась ссора…