Книга 1. На рубеже двух столетий - [13]
Все это не могло не сказаться в том, что полуразрушенные бытом отцов дети рубежа до конца разрушили быт отцов, казавшихся такими твердокаменными и крепкими; кариатиды что-то уж слишком быстро рассыпались в порошок или покрылись мохом; а неказистые, с виду хилые, отнюдь не кариатиды, мы, именно поскольку мы были не твердыми, но текучими, протекли в твердыни, защищаемые против нас. Волей к переоценке и убежденностью в правоте нашей критики были сильны мы в то время; и эта критика наша быта отцов начертала нам схемы иных форм быта; она же продиктовала интерес к тем образам прошлого, которые были заштампованы прохожею визою поколения семидесятников и восьмидесятников; они не учли Фета, Тютчева, Боратынского; мы их открывали в пику отцам; в нашем тогдашнем футуризме надо искать корней к нашим пассеистическим экскурсам и к всевозможным реставрациям; иное «назад» приветствовали мы, как «вперед» из нашей тогдашней революционной тактики обходного движения; мы, не разделяя позиции Канта, но еще более ненавидя «ползучий эмпиризм» (кажется, выражение Ленина)>5, в пику Стюарту Миллю тактически поддерживали лозунги «назад к Канту», «назад к Ньютону» от крайностей механицизма, которым были полны и который иные из нас изучали специально; мы выдвигали Диалектику, динамику, квалитатизм, Гераклита против стылых норм элейского бытия, статики и исключительности квантитатизма;>6 и уже со всею решительностью провозглашали «назад к Пушкину» от… Надсона и… Скабичевского; и даже «назад к Марксу и Энгельсу» от… Максима Максимовича Ковалевского и всяческого «янжулизма»;>7 так: в 1907 году я писал: «О, если бы вы, Иван
Изанович, познакомились хотя бы с механическим мировоззрением, прочли бы химию… О, если бы вы разучили… эрфуртскую программу» («Арабески», стр. 341)>8. Нам предлагались когда-то: не Маркс, а — Кареев, не Кант и Гегель для исторического изучения становления логики, диалектики и методологии, а… «История философии» Льюиса>9 вместе с пошлятиной французской описательной психологии, а нас уже в гимназическом возрасте воротило от Смайльсов, которыми в отрочестве перечитались и мы; некогда мы готовы были согласиться на что угодно: на Ницше, на Уайльда, даже… на Якова Беме, только бы нас освободили от Скабичевского, Кареева и Алексея Веселовского; и мы, покажи нам Рублева, конечно же схватились бы за него, чтобы отойти от впечатлений художества Константина Маковского, нам подставленного; наши «пассеистические» уроки отцам имели такой смысл: «Вы нас упрекаете в беспринципном новаторстве, в разрушенье устоев и догматов вечной музейной культуры; хороше же, — будем „за“ это все; но тогда подавайте настроенный строй, — не прокисший устой, не штамп, а стиль, продуманный заново, не скепсис, а — критицизм; отдайте нам ваши музеи, мы их сохраним, вынеся из них Клеверов и внеся Рублевых и Врубелей».
Мы, недовольные разных мастей, пересекались твердо на «нет», которое было выношено жизнью.
Теперь — эпоха опубликования всякого рода дневников; сошлюсь на них для иллюстрации своей мысли.
Вот — «Дневник» Блока:>10 какая ирония по отношению к штампу ходячего либерализма; и в Цицероне провидит впоследствии он хорошо изученный образ «кадета»;>11 все это сквозит в нем еще в 1912–1913 годах; говорю «еще»; подчеркиваю: «не уже»; принято объяснять Блока, как пришедшего к критике обставшего быта; а надо брать Блока, как исшедшего из этой критики еще в эпоху «Ante Lucem»;>12 он мог ошибаться в оформлении своих консеквенций>13 критики; но критика быта — основное в нем; то именно, что его сделало для «отцов» «декадентом»; дневники Блока — под знаком «еще»; не «уже» Блок трезвеет, а «еще» не может забыть чего-то, что некогда отделило его весьма от других. Другой пример: «Из моей жизни» Валерия Брюсова;>14 та же горечь выдавленности из быта и ощущение своей потерянности в нем.
Люди, подобные Брюсову, Блоку, мне, лишь позднее связавшиеся в попытках оформить свое культурное «credo», до встречи друг с другом уже были тверды, как сталь, в отношении к вчерашнему дню; и эта сталь стала нам лезвием отреза от конца века; не тогда стал Брюсов декадентом, когда напечатал «О, закрой свои бледные ноги»>15, а тогда, когда изучал Спинозу в Поливановской гимназии>16 и в эти же месяцы отметил в дневнике неизбежность для него быть символистом;>17 а я стал изгоем профессорской среды не по указу «Русских Ведомостей» 1902 года>18, а тогда уже им был, когда в 1897 году товарищи показывали на меня учителю: «А Бугаев-то у нас — декадент». Подлинные дневники тогда именно и писались: в душе.
И позднее, встретившись, мы спорили о весьма многом: о значении французского символизма, не слишком значительного для нас с Блоком и значительного для Брюсова, о значении Ницше, ценимого мной и не слишком еще ценимого Блоком>19, и т. д.; но мы никогда не спорили о том, имеют ли значение фразы Гольцева, И. И. Иванова и Алексея Веселовского; и еще: не соглашаясь ни в чем с Константином Леонтьевым, мы предпочитали читать его, чем… Кареева. Таковы были мы.

Что такое любовь? Какая она бывает? Бывает ли? Этот сборник стихотворений о любви предлагает свои ответы! Сто самых трогательных произведений, сто жемчужин творчества от великих поэтов всех времен и народов.

Андрей Белый (Борис Николаевич Бугаев) – одна из ключевых фигур Серебряного века, оригинальный и влиятельный символист, создатель совершенной и непревзойденной по звучанию поэзии и автор оригинальной «орнаментальной» прозы, высшим достижением которой стал роман «Петербург», названный современниками не прозой, а «разъятой стихией». По словам Д.С.Лихачева, Петербург в романе – «не между Востоком и Западом, а Восток и Запад одновременно, т. е. весь мир. Так ставит проблему России Белый впервые в русской литературе».
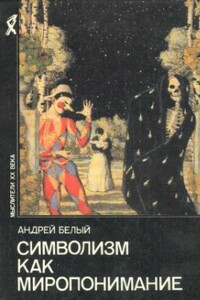
Андрей Белый (1880–1934) — не только всемирно известный поэт и прозаик, но и оригинальный мыслитель, теоретик русского символизма. Книга включает наиболее значительные философские, культурологичекие и эстетические труды писателя.Рассчитана на всех интересующихся проблемами философии и культуры.http://ruslit.traumlibrary.net.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Андрей Белый (Борис Николаевич Бугаев) – одна из ключевых фигур Серебряного века, оригинальный и влиятельный символист, создатель совершенной и непревзойденной по звучанию поэзии и автор оригинальной «орнаментальной» прозы, высшим достижением которой стал роман «Петербург», названный современниками не прозой, а «разъятой стихией». По словам Д.С.Лихачева, Петербург в романе – «не между Востоком и Западом, а Восток и Запад одновременно, т. е. весь мир. Так ставит проблему России Белый впервые в русской литературе».Помимо «Петербурга» в состав книги вошли стихотворения А.Белого из сборников «Золото в лазури», «Пепел» и поэма «Первое свидание».

Вступительная статья, составление, подготовка текста и примечания А.В. Лаврова.Тексты четырех «симфоний» Андрея Белого печатаются по их первым изданиям, с исправлением типографских погрешностей и в соответствии с современными нормами орфографии и пунктуации (но с сохранением специфических особенностей, отражающих индивидуальную авторскую манеру). Первые три «симфонии» были переизданы при жизни Белого, однако при этом их текст творческой авторской правке не подвергался; незначительные отличия по отношению к первым изданиям представляют собой в основном дополнительные опечатки и порчу текста.

Константин Петрович Победоносцев — один из самых влиятельных чиновников в российской истории. Наставник двух царей и автор многих высочайших манифестов четверть века определял церковную политику и преследовал инаковерие, авторитетно высказывался о методах воспитания и способах ведения войны, давал рекомендации по поддержанию курса рубля и композиции художественных произведений. Занимая высокие посты, он ненавидел бюрократическую систему. Победоносцев имел мрачную репутацию душителя свободы, при этом к нему шел поток обращений не только единомышленников, но и оппонентов, убежденных в его бескорыстности и беспристрастии.

Заговоры против императоров, тиранов, правителей государств — это одна из самых драматических и кровавых страниц мировой истории. Итальянский писатель Антонио Грациози сделал уникальную попытку собрать воедино самые известные и поражающие своей жестокостью и вероломностью заговоры. Кто прав, а кто виноват в этих смертоносных поединках, на чьей стороне суд истории: жертвы или убийцы? Вот вопросы, на которые пытается дать ответ автор. Книга, словно богатое ожерелье, щедро усыпана массой исторических фактов, наблюдений, событий. Нет сомнений, что она доставит огромное удовольствие всем любителям истории, невероятных приключений и просто острых ощущений.

Мемуары известного ученого, преподавателя Ленинградского университета, профессора, доктора химических наук Татьяны Алексеевны Фаворской (1890–1986) — живая летопись замечательной русской семьи, в которой отразились разные эпохи российской истории с конца XIX до середины XX века. Судьба семейства Фаворских неразрывно связана с историей Санкт-Петербургского университета. Центральной фигурой повествования является отец Т. А. Фаворской — знаменитый химик, академик, профессор Петербургского (Петроградского, Ленинградского) университета Алексей Евграфович Фаворский (1860–1945), вошедший в пантеон выдающихся русских ученых-химиков.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
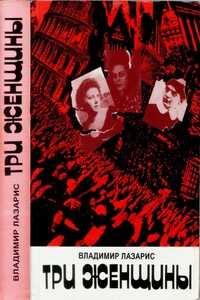
Эту книгу можно назвать книгой века и в прямом смысле слова: она охватывает почти весь двадцатый век. Эта книга, написанная на документальной основе, впервые открывает для русскоязычных читателей неизвестные им страницы ушедшего двадцатого столетия, развенчивает мифы и легенды, казавшиеся незыблемыми и неоспоримыми еще со школьной скамьи. Эта книга свела под одной обложкой Запад и Восток, евреев и антисемитов, палачей и жертв, идеалистов, провокаторов и авантюристов. Эту книгу не читаешь, а проглатываешь, не замечая времени и все глубже погружаясь в невероятную жизнь ее героев. И наконец, эта книга показывает, насколько справедлив афоризм «Ищите женщину!».

Оценки личности и деятельности Феликса Дзержинского до сих пор вызывают много споров: от «рыцаря революции», «солдата великих боёв», «борца за народное дело» до «апостола террора», «кровожадного льва революции», «палача и душителя свободы». Он был одним из ярких представителей плеяды пламенных революционеров, «ленинской гвардии» — жесткий, принципиальный, бес— компромиссный и беспощадный к врагам социалистической революции. Как случилось, что Дзержинский, занимавший ключевые посты в правительстве Советской России, не имел даже аттестата об образовании? Как относился Железный Феликс к женщинам? Почему ревнитель революционной законности в дни «красного террора» единолично решал судьбы многих людей без суда и следствия, не испытывая при этом ни жалости, ни снисхождения к политическим противникам? Какова истинная причина скоропостижной кончины Феликса Дзержинского? Ответы на эти и многие другие вопросы читатель найдет в книге.