Кладовка - [8]
Этот глубоко выстраданный в бессонные ночи рассказ произвел на меня оглушающее впечатление, и вовсе не потому, что сам потенциальный покойник его столь просто, спокойно, разумно и делово рассказывает. Рассказ раздавил меня своей художественностью, простотой, точностью, — в нем и запятой лишней не было. Потому я и не взялся его пересказать, мне такое не по плечу. Все-таки если бы меня спросили, каков должен быть по-настоящему хороший рассказ, я бы не задумываясь назвал именно этот, но написать такое никто никогда не мог и не сможет. Этот рассказ открыл передо мной основную истину, правда, настолько затасканную, что ее уже не видно и не слышно. Истина в том, что искусство определяется количеством выстраданного в нем материала и простотой изложения.
За сорокалетие, прошедшее с папиной смерти, он не только остался для меня живым, а, пожалуй, стал и более живым, и уж конечно более близким и понятным.
Он никогда меня ничему не учил и ни на что не наталкивал, но, если по совести, для себя я должен бы был кого-то назвать своим учителем, мне пришлось бы назвать именно его. Все остальные, кто старался активно меня учить, были досадными препятствиями на моем пути, их надо было лишь преодолевать или бежать от них, и то и другое мне трудно давалось.
Когда мне стаю более или менее ясно, чем я буду заниматься после средней школы, я довел до сведения родителей, что буду подвизаться на поприще изоискусства. Вскоре началась моя учеба у Павлинова, затем Вхутеин, потом халтура, потом у Фаворского в Изоинституте.
Поначалу папа к моему выбору отнесся с явным безразличием и даже, пожалуй, можно сказать, что занял в этом вопросе позицию выжидательную. Он думал, что я пошел по искусству, желая избежать кабалы нашей действительности, и, конечно, сочувствовал мне, желая, чтобы я хоть как-то избежал «рабства». Но при такой постановке вопроса меня как будущего художника он едва ли мог всерьез рассматривать.
Однако чем дальше продвигалась моя учеба, тем хуже становились мои успехи, скорее можно сказать, что успехов вообще не было. Было нудное, тяжкое, иногда нестерпимое «отбывание срока» в чуждой для меня школе. Папа, конечно, очень и очень мне сочувствовал, но сочувствие это было с «соблюдением дистанции». В мои учебные дела он не вникал, тем более что Фаворский и все его присные были для ней) еще дальше, чем для меня.
Когда же он понял, что искусство стало единственной формой моей жизни, что закрыло собой все окружающее, словом, что «нет мне без него любви», здесь папа очень и очень насторожился. Смутило и обеспокоило его не то, что он просчитался, это в нашем деле сплошь и рядом случается. Испугался он просто за меня, за мое настойчивое стремление разбить о стенку собственную голову.
Искусство, ставшее столь исключительно делом моей жизни, выдвинуло на первый план для папы вопрос, а художник ли я и есть ли мне что сказать свое. Такой же мучительный вопрос, только по отношению к самому себе, стоял и перед ним когда-то в течение около двух десятилетий, и чем это пахнет, он понимал. Вот это его и пугало, ведь он прекрасно знал, что заниматься искусством и быть художником — это отнюдь не одно и то же. Может казаться, что грань эта не очень отчетливая, но это неверно, можно ошибиться, можно сразу не увидеть, но рано или поздно грань эта проступает, и роль ее решающая. Вопрос об этой грани стоит во многих видах искусства и литературы, резче всего она видна в поэзии. Изоискусство в этом смысле стоит следом за ней, здесь также нет ничего извиняющего и ничего объясняющего. Здесь есть или «да», или «нет». При этом масштаб этого «да» может быть весьма различен, от крохотного ручейка до огромной реки.
В этом «да» заключено нечто до того первостепенное, что все остальное, включая судьбу и удачу, по сравнению с этим мелочь, даже величина масштаба, даже это — дело вполне третьестепенное.
Вопрос о наличии у меня этого «да» его, конечно, тревожил. Об этом он никогда прямо не говорил, только внимательно, искоса, исподлобья поглядывал на мои работы, поглядывал и молчал. Общеупотребимых измерений он не признавал, у него были свои мерки, мерки, выверенные его тяжелым рабочим путем.
Наконец, кажется, это было в тридцать пятом году, он взял пейзаж, который я безуспешно писал все это дождливое лето. Отнес его к себе в мастерскую, обрамил и там повесил. Я с удивлением спросил:
«Зачем это?»
И получил ответ: нужно.
«Да зачем нужно?»
Папа формовал из гипса какую-то дощечку. Оторвавшись от работы, взглянул на меня исподлобья невидящим рассеянным взглядом, сказал:
«Это нужно мне, для себя. Теперь я уже знаю, что художником ты будешь во всяком случае. Каким — не знаю. Это как Бог даст, но настоящим. Так-то вот, брат».
Он вздохнул, передернул плечами и, снова принявшись формовать, не глядя на меня, добавил:
«Так что если случится помирать, то теперь хоть в этом пункте мне не так страшно будет».
Глава III
Во всех направлениях по арбатским тротуарам движутся люди, они текут по Арбату и растворяются в бесконечных кривых переулках и улицах приарбатского царства. Арбат — столица этого царства.
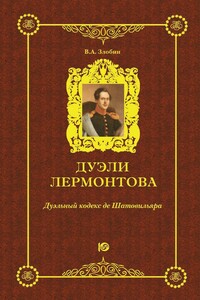
Настоящие материалы подготовлены в связи с 200-летней годовщиной рождения великого русского поэта М. Ю. Лермонтова, которая празднуется в 2014 году. Условно книгу можно разделить на две части: первая часть содержит описание дуэлей Лермонтова, а вторая – краткие пояснения к впервые издаваемому на русском языке Дуэльному кодексу де Шатовильяра.
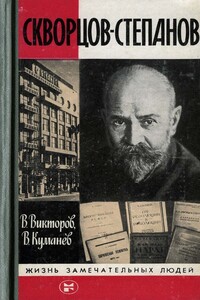
Книга рассказывает о жизненном пути И. И. Скворцова-Степанова — одного из видных деятелей партии, друга и соратника В. И. Ленина, члена ЦК партии, ответственного редактора газеты «Известия». И. И. Скворцов-Степанов был блестящим публицистом и видным ученым-марксистом, автором известных исторических, экономических и философских исследований, переводчиком многих произведений К. Маркса и Ф. Энгельса на русский язык (в том числе «Капитала»).
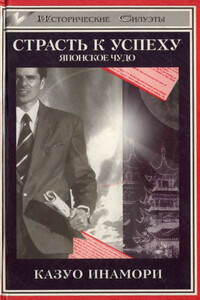
Один из самых преуспевающих предпринимателей Японии — Казуо Инамори делится в книге своими философскими воззрениями, следуя которым он живет и работает уже более трех десятилетий. Эта замечательная книга вселяет веру в бесконечные возможности человека. Она наполнена мудростью, помогающей преодолевать невзгоды и превращать мечты в реальность. Книга рассчитана на широкий круг читателей.

Биография Джоан Роулинг, написанная итальянской исследовательницей ее жизни и творчества Мариной Ленти. Роулинг никогда не соглашалась на выпуск официальной биографии, поэтому и на родине писательницы их опубликовано немного. Вся информация почерпнута автором из заявлений, которые делала в средствах массовой информации в течение последних двадцати трех лет сама Роулинг либо те, кто с ней связан, а также из новостных публикаций про писательницу с тех пор, как она стала мировой знаменитостью. В книге есть одна выразительная особенность.
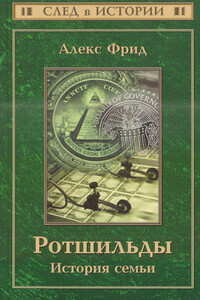
Имя банкирского дома Ротшильдов сегодня известно каждому. О Ротшильдах слагались легенды и ходили самые невероятные слухи, их изображали на карикатурах в виде пауков, опутавших земной шар. Люди, объединенные этой фамилией, до сих пор олицетворяют жизненный успех. В чем же секрет этого успеха? О становлении банкирского дома Ротшильдов и их продвижении к власти и могуществу рассказывает израильский историк, журналист Атекс Фрид, автор многочисленных научно-популярных статей.

Многогранная дипломатическая деятельность Назира Тюрякулова — полпреда СССР в Королевстве Саудовская Аравия в 1928–1936 годах — оставалась долгие годы малоизвестной для широкой общественности. Книга доктора политических наук Т. А. Мансурова на основе богатого историко-документального материала раскрывает многие интересные факты борьбы Советского Союза за укрепление своих позиций на Аравийском полуострове в 20-30-е годы XX столетия и яркую роль в ней советского полпреда Тюрякулова — талантливого государственного деятеля, публициста и дипломата, вся жизнь которого была посвящена благородному служению своему народу. Автор на протяжении многих лет подробно изучал деятельность Назира Тюрякулова, используя документы Архива внешней политики РФ и других центральных архивов в Москве.