Кладовка - [43]
Впоследствии, почти через двадцать лет, мне пришлось перенести столь же длительное, но куда более лютое безденежье. Причем безденежье безнадежно бесперспективное и ничем не скрашенное. По каким-то причинам, мне мало понятным, я сейчас вспоминаю его спокойнее. По-видимому, именно так часто бывает в жизни, ведь собственные трудности, пусть очень тяжелые, можно как-то заволакивать, рассеивать мелочными необходимостями будней. А беды и горе близких людей давят тебя, не давая покоя и роздыха. В связи с этим напрашивается и совсем другая мысль: ведь самое материально немыслимое для меня время было с конца сороковых годов до середины пятидесятых, время вообще это было страшное, и гнет его был ужасен, и все-таки воздух, тогда нас окружавший, был чем-то чище воздуха пресловутых двадцатых годов. В чем тут дело, почему это так? Неужели же все же дело в «искупительной массовой жертве»? Теперь все чаще думается, что в этом и дело. За что же искупление, неужели за глубокомысленное резонерство девятнадцатого столетия?
Безденежье было далеко не единственной тяготой, висевшей на нашей семье, нас тогда буквально обстреливаю со всех сторон. Мучила именно эта массированность обстрела и отсутствие защищенных мест. Непрерывный обстрел рождал чувство страха даже в людях, для подобного чувства мало приспособленных. Но тогда, в те годы, страх принимал формы вполне осязаемые, отчего субъективно он воспринимался скорее локально, и только в тридцатые годы страх, потеряв свою осязательность, загнездился буквально во всем.
Вот почему так трудно писать о двадцатых годах: ведь взятые в отдельности, все это мелочи вполне осязаемые и будничные, в единстве же времени и места, навалившиеся скопом на человека, они уродовали его жизнь.
Таким образом, можно довольно точно сказать, что почти ни одно из обстоятельств, засорявших жизнь людей в двадцатые годы, само по себе не было определяющим для времени. Действительно могут они нарисовать жизнь того времени лишь совместно с другими и именно в том сочетании, в котором они наваливались на жизнь той или иной семьи. В дальнейшем, с середины тридцатых годов, уже четко наметился процесс стандартизации этих сочетаний, и количество полутонов, отличающих жизнь одной семьи от жизни другой, уменьшилось.
Тогда же, в двадцатые годы, только одно обстоятельство было всеобщим для интеллигенции. Я имею в виду коммунальность жилья и зависимость от домоуправлений и управдомов. Большинство людей, находившихся в поле моего зрения, жили в условиях коммунальных квартир, чаще всего своих же бывших дореволюционных и постепенно заселяемых чуждыми и даже враждебными контингентами. Законы, которые регламентировали изъятие у вас комнат и их заселение, были настолько резиновыми, что больше смахивали на беззаконие. К этому еще всегда примешивался так называемый классовый вопрос, то есть вопрос о прошлом: имущественном, общественном, сословном положении и даже о родственных связях тех, у кого что-то изымалось. Общение по жилищным вопросам с домоуправлением носило всегда характер судилища над недобитыми остатками прошлого. Как-то уж очень быстро большинство квартир не только в приарбатье, но почти во всей Москве превратилось в осиные гнезда, а жизнь в них стала кошмаром. Старые владельцы этих квартир, загнанные в одну, много две комнатенки, жили, стараясь не замечать ужаса этой жизни. Но между тем, чтобы стараться не замечать, и тем, чтобы действительно не замечать, разница очень существенная.
У большинства коммунальная квартира была фоном жизни. У одних этот фон был совсем нестерпим, у других терпимее.
Коммунальность жилья, если исключить доносы и их последствия, непосредственно не грозила жизни людей, она только лишала людей своего дома, своей собственной жизни или, в лучшем случае, ее неповторимой сокровенности. Берлога была пропитана чуждыми запахами и насквозь проглядывалась.
Интересно, что при встречах даже с друзьями этого круга о прелестях своего коммунального житья не распространялись. Конечно, тема эта противная, но было здесь и другое, гораздо более существенное, — это то, что русскому интеллигенту уж очень неловко было не только говорить, но и думать о столь малой и непринципиальной категории. Нелепые и, в общем, смешные, они никак не могли до конца отказаться от светлых идей своего прошлого, даже в условиях тех лет все еще стремились становиться на цыпочки и смотреть на жизнь сквозь призму больших проблем. Понадобилось еще два десятилетия, чтобы те из них, кто выжил, хоть сколько-то разобрались в вопросах о масштабности категорий, — да и все ли они разобрались в этом?
Отсюда и в литературе коммунальная квартира фигурирует лишь в юмористическом плане, плане анекдота, что в корне искажает смысл этого явления.
Тема эта — в истинном смысле этого понятия — трагическая. Только трагедия эта нового, еще не созданного характера. Бытовой характер носит лишь ее поверхность, внешность, а смысл ее гораздо глубже. К истории она привязана лишь по конструкции, а суть ее вообще общечеловеческая.
Тема эта должна быть изображена максимально просто, даже малейший нажим ее ослабит, ее персонажи должны быть по-будничному обыденны, ситуации просты и естественны, а мотивы, которые движут там людьми, должны быть скрупулезно прослежены.

«Пойти в политику и вернуться» – мемуары Сергея Степашина, премьер-министра России в 1999 году. К этому моменту в его послужном списке были должности директора ФСБ, министра юстиции, министра внутренних дел. При этом он никогда не был классическим «силовиком». Пришел в ФСБ (в тот момент Агентство федеральной безопасности) из народных депутатов, побывав в должности председателя государственной комиссии по расследованию деятельности КГБ. Ушел с этого поста по собственному решению после гибели заложников в Будённовске.

Рассказ о жизни и делах молодежи Русского Зарубежья в Европе в годы Второй мировой войны, а также накануне войны и после нее: личные воспоминания, подкрепленные множеством документальных ссылок. Книга интересна историкам молодежных движений, особенно русского скаутизма-разведчества и Народно-Трудового Союза, историкам Русского Зарубежья, историкам Второй мировой войны, а также широкому кругу читателей, желающих узнать, чем жила русская молодежь по другую сторону фронта войны 1941-1945 гг. Издано при участии Posev-Frankfurt/Main.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Уникальное издание, основанное на достоверном материале, почерпнутом автором из писем, дневников, записных книжек Артура Конан Дойла, а также из подлинных газетных публикаций и архивных документов. Вы узнаете множество малоизвестных фактов о жизни и творчестве писателя, о блестящем расследовании им реальных уголовных дел, а также о его знаменитом персонаже Шерлоке Холмсе, которого Конан Дойл не раз порывался «убить».
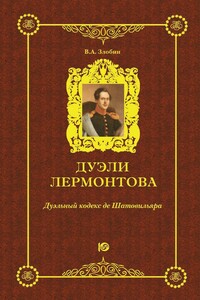
Настоящие материалы подготовлены в связи с 200-летней годовщиной рождения великого русского поэта М. Ю. Лермонтова, которая празднуется в 2014 году. Условно книгу можно разделить на две части: первая часть содержит описание дуэлей Лермонтова, а вторая – краткие пояснения к впервые издаваемому на русском языке Дуэльному кодексу де Шатовильяра.
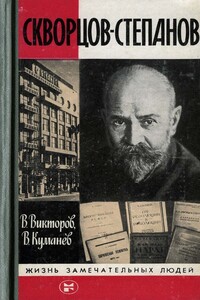
Книга рассказывает о жизненном пути И. И. Скворцова-Степанова — одного из видных деятелей партии, друга и соратника В. И. Ленина, члена ЦК партии, ответственного редактора газеты «Известия». И. И. Скворцов-Степанов был блестящим публицистом и видным ученым-марксистом, автором известных исторических, экономических и философских исследований, переводчиком многих произведений К. Маркса и Ф. Энгельса на русский язык (в том числе «Капитала»).