Кладбище в Скулянах - [6]
Вероятно, мой дедушка, маленький Ваня, впервые приведенный на мельницу, испытал такой ужас, что через много-много лет и таинственным путем этот ужас передался по наследству мне, его внуку.
Долго преследовал меня страх ветряной мельницы.
Не могу не привести несколько строк из «Капитанской дочки», которую как раз в это время перечитывал:
«Читатель извинит меня: ибо вероятно знает по опыту, как сродно человеку предаваться суеверию, не смотря на всевозможное презрение к предрассудкам».
«Я находился в том состоянии чувств и и души, когда существенность, уступая мечтаниям, сливается с ними в неясных видениях первосония».
Мне очень свойственно находиться в таком состоянии, как бы в миг засыпания, между бодрствованием и сном, что так чудесно назвал Пушкин «первосонием». Впрочем, я бы предпочел назвать его междусонием.
…между жизнью и смертью…
Я всегда испытывал ужас при виде огромных мельничных крыльев, проносящихся в опасной близости над моей головой, как бы желая меня обезглавить, при их зловещем скрипе, их движении силой степного ветра.
Еще больший ужас испытывал я, когда мне в детстве случалось, поднявшись по шаткой лесенке, войти внутрь работающей мельницы, где в сухом сумраке трясся привод, связанный из грубых деревянных брусьев, крутящийся столб со странным зернистым гулом вращал жернова, из-под которых лился белый ручеек пшеничной муки.
«Мысли гигантов… Мысли гениев», как сказал о работе мельничных жерновов один великий чёрт.
Хлебная пыль стояла в воздухе и першила в горле. Люди с белыми мешками на спинах, осыпанные с головы до ног мукой, двигались мимо меня как привидения.
Не менее страшной казалась мельница ночью, посреди безлюдной степи, когда ее крылья неподвижно чернели на фоне звездного неба.
Тогда черная коробка мельницы, лишенная души, представлялась мне непомерно огромной, занимающей полнеба, а я рядом с ней — таким маленьким!
Однажды, будучи юношей, шел я глухой ночью через степь между двумя лиманами — Куяльницким и Хаджибейским, засидевшись в гостях на Куяльницком лимане. Все уже ушли спать, а мы с «ней» одни продолжали сидеть на террасе, облитые теплым светом полуночной июльской луны, и никакая сила в мире не могла заставить меня встать с плетеного кресла, хотя девушка уже несколько раз зевнула, крестя свой маленький кошачий ротик. Наконец я заставил себя встать. Она пошла в комнаты и вернулась с небольшим дорожным пистолетом прошлого века. Наверное, из такого пистолета Дубровский застрелил медведя. Девушка попросила, чтобы я взял его на всякий случай: мало ли что могло случиться со мной ночью в глухой степи. Я сунул холодный пистолет под свою летнюю коломянковую гимназическую куртку на грудь и пошел восвояси.
Уже перешло за полночь. На горизонте сгущалась предутренняя чернота.
…Я был опьянен любовью…
Глухая ночь, далекий лай собак, весь небосклон пропитан лунным светом, и в серебре небес заброшенный ветряк стоит зловещим силуэтом. Беззвучно тень моя по лопухам скользит и как разбойник гонится за мною. Вокруг сверчков хрустальный хор звенит и жнивье ярко светится росою. В душе растет немая скорбь и жуть. В лучах луны вся степь белее снега. До боли страшно мне. О, если б как-нибудь скорей добраться до ночлега.
Мне показалось, что я слышу за собой чьи-то недобрые шаги. Я вынул пистолет. Синий огонек луны скользнул по его никелированному стволу с ложбинкой.
Через несколько дней началась война 1914 года.
«За мельницей, — писал дедушка карандашом в слабеющей руке на полях своих мемуаров, — в пяти верстах были пять садов виноградных и фруктовых, названных по числу детей: Сашин сад, Яшин сад, Анастасьин сад, Лизин сад и Ванин сад (то есть мой сад!)».
«В моем саду было озеро с проточной водой, куда запускали карасей, окуней и раков для домашнего употребления, а в саду Анастасии — винодельный завод. Он выделывал вино со всех садов».
«Один случай засел у меня в голове… Проезжая в бричке по моему саду…»
На этом месте запись карандашом обрывается. Доходя до этого места, я всегда начинаю гадать: какой же случай произошел с дедушкой в саду?
Так как я уже не мог никогда узнать этого, то на всю жизнь у меня осталось ощущение чего-то таинственного. Всякий раз, как мне приходилось войти под сень фруктового сада или в гущу виноградника с вырезными листьями, покрытыми бирюзовыми пятнами купороса, я испытывал и до сих пор испытываю это странное ощущение.
«Готовили у нас два раза: обед и ужин, все заново. Обедали потом под деревьями, возле дома, а зимой в комнате».
«Когда отец бывал у себя в кабинете, то ему посылали доложить, что кушанье готово. Мать, сестра и я стояли возле своих приборов за стульями и ожидали отца. При входе своем он крестился на образ, окинув предварительно своим взглядом, все ли в порядке, после чего садился, что обозначало, что нам тоже можно садиться».
«Никто прежде него не смел открыть рта».
«С матерью он говорил по-немецки, а с сестрой и мною по-русски, причем ответы наши должны были быть краткие и ясные, без рассуждений».
«По праздникам он разрешал давать к столу полбутылки шампанского или донского…»
Представляю себе, с каким нетерпением мой дедушка — тогдашний мальчик Ваня — и его сестренка Настя дожидались праздничного обеда, заранее чувствуя на языке морозные иголочки шампанского. Они испытывали то же самое, что впоследствии, лет этак через сто с лишним, испытал однажды и я в парижской Гранд-Опера в антракте оперы Дебюсси «Страдания святого Себастиана», когда, пройдя в новых, скользких ботинках через громадное холодное фойе бельэтажа по хорошо натертому, но старому и скрипучему паркету, я попал в буфет, где продавщица в наколке налила мне в плоский бокал немного замороженного шампанского из златогорлой бутылки, и я отошел к громадному высокому окну с закругленным верхом, за которым сиял ночной Париж со множеством сверкающих витрин на авеню Гранд-Опера и фонарей в стиле XIX века, изливающих современный свет середины XX века всех оттенков голубого, зеленого, лилового, смешанных вместе, и сделал расчетливо маленький, божественно скупой глоток «клико», от которого по моему языку побежали иголочки, в горле защипало, а лиловые фонари площади, наполненной толпой, как бы потекли в моих глазах, меняя тона, и голова закружилась, повторяя движение бегущих вокруг площади автомобилей.

В книгу выдающегося советского писателя Валентина Катаева вошли хорошо известные читателю произведения «Белеет парус одинокий» и «Хуторок в степи», с романтической яркостью повествующие о юности одесских мальчишек, совпавшей с первой русской революцией.
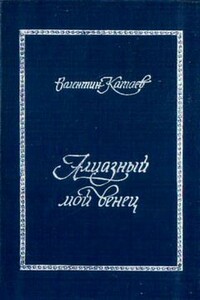
В книгу выдающегося советского писателя вошли три повести, написанные в единой манере. Стиль этот самим автором назван «мовизм». "Алмазный мой венец" – роман-загадка, именуемый поклонниками мемуаров Катаева "Алмазный мой кроссворд", вызвал ожесточенные споры с момента первой публикации. Споры не утихают до сих пор.
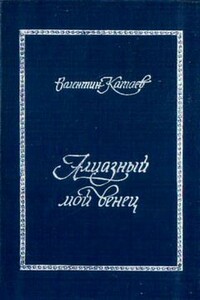
В книгу выдающегося советского писателя вошли три повести, написанные в единой манере. Стиль этот самим автором назван «мовизм». По словам И. Андроникова, «искусство Катаева… – это искусство нового воспоминания, когда писатель не воспроизводит событие, как запомнил его тогда, а как бы заново видит, заново лепит его… Катаев выбрал и расставил предметы, чуть сдвинул соотношения, кинул на события животрепещущий свет поэзии…»В этих своеобразных "повестях памяти", отмеченных новаторством письма, Валентин Катаев с предельной откровенностью рассказал о своем времени, собственной душевной жизни, обо всем прожитом и пережитом.
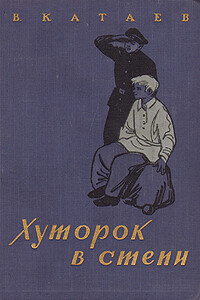
Роман «Хуторок в степи» повествует с романтической яркостью о юности одесских мальчишек, совпавшей с первой русской революцией.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!Перед вами роман «Зимний ветер» — новое произведение известного советского писателя Валентина Петровича Катаева. Этим романом писатель завершил свой многолетний труд — эпопею «Волны Черного моря», в которую входят «Белеет парус одинокий», «Хуторок в степи» и «За власть Советов» («Катакомбы») — книги, завоевавшие искреннюю любовь и подлинное признание у широких слоев читателей — юных и взрослых.В этом романе вы встретитесь со своими давними знакомыми — мальчиками Петей Бачеем и Гавриком Черноиваненко, теперь уже выросшими и вступившими в пору зрелости, матросом-потемкинцем Родионом Жуковым, учителем Василием Петровичем — отцом Пети, славными бойцами революции — большевиками-черноморцами.Время, описанное в романе, полно напряженных, подлинно драматических событий.

Это наиболее полная книга самобытного ленинградского писателя Бориса Рощина. В ее основе две повести — «Открытая дверь» и «Не без добрых людей», уже получившие широкую известность. Действие повестей происходит в районной заготовительной конторе, где властвует директор, насаждающий среди рабочих пьянство, дабы легче было подчинять их своей воле. Здоровые силы коллектива, ярким представителем которых является бригадир грузчиков Антоныч, восстают против этого зла. В книгу также вошли повести «Тайна», «Во дворе кричала собака» и другие, а также рассказы о природе и животных.
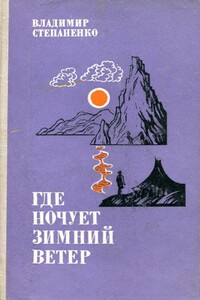
Автор книг «Голубой дымок вигвама», «Компасу надо верить», «Комендант Черного озера» В. Степаненко в романе «Где ночует зимний ветер» рассказывает о выборе своего места в жизни вчерашней десятиклассницей Анфисой Аникушкиной, приехавшей работать в геологическую партию на Полярный Урал из Москвы. Много интересных людей встречает Анфиса в этот ответственный для нее период — людей разного жизненного опыта, разных профессий. В экспедиции она приобщается к труду, проходит через суровые испытания, познает настоящую дружбу, встречает свою любовь.

В книгу украинского прозаика Федора Непоменко входят новые повесть и рассказы. В повести «Во всей своей полынной горечи» рассказывается о трагической судьбе колхозного объездчика Прокопа Багния. Жить среди людей, быть перед ними ответственным за каждый свой поступок — нравственный закон жизни каждого человека, и забвение его приводит к моральному распаду личности — такова главная идея повести, действие которой происходит в украинской деревне шестидесятых годов.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Прозу Любови Заворотчевой отличает лиризм в изображении характеров сибиряков и особенно сибирячек, людей удивительной душевной красоты, нравственно цельных, щедрых на добро, и публицистическая острота постановки наболевших проблем Тюменщины, где сегодня патриархальный уклад жизни многонационального коренного населения переворочен бурным и порой беспощадным — к природе и вековечным традициям — вторжением нефтедобытчиков. Главная удача писательницы — выхваченные из глубинки женские образы и судьбы.

