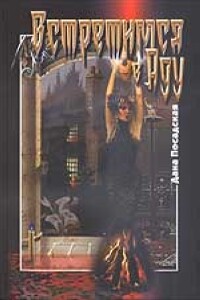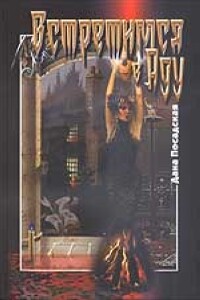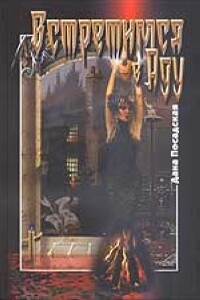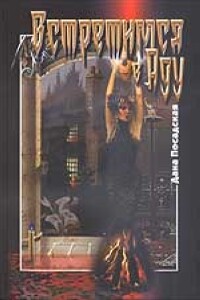— Но, дядюшка Магус!
— Не смей мне перечить! Вы и так проводите с Люцием вместе не так много времени. А он, полагаю, даже будет доволен! — Магус хихикнул. — Верно, мой мальчик?
Ульрика яростно вспыхнула.
— Далее. — Дядюшка Магус вцепился в бороду. Он явно не знал, что ещё сказать — Каждый должен помнить о магической защите! Хуже всего то, — он сердито нахмурился, — что нам очень сложно защищаться от силы друг друга…
— О, нет.
Это сказала Белинда — тихо и абсолютно спокойно… но все почему-то вздрогнули, — даже Энедина, восседавшая в позе египетской статуи, с пустым взглядом, устремлённым в никуда.
Глаза Белинды, расширились и потемнели, она неотрывно смотрела на стену. На атласных обоях, изъеденных временем, что-то проступало. Все замерли, читая возникавшие одна за другой кроваво-красные буквы. Латынь…
«Я здесь. Я в одном из вас. И я уничтожу вас всех».
Точка. Конец. Кровавая клякса — точно рана на грязных обоях. Все молчали — все взгляды неумолимо стянулись к этой алой язве, и заскользили вспять, по каждому знаку — снова и снова. В глазах всех, собравшихся возле стены, горели плевками багровые буквы…
И вдруг в комнате послышался смешок… и этот смешок был совсем не похож на добродушное утробное хихиканье дядюшки Магуса.
Никто ничего не сказал. Все лишь смотрели молча — то снова на надпись, то друг на друга.
Ты?
Ты?!
Наконец, Белинда разорвала душную завесу подозрительного злобного молчания.
— Замечательно! — воскликнула она — почти весело, но на щеках у неё танцевали пунцовые пятна, а глаза стеклянно блестели. — Браво! Он уже так лихо управляется силой! Какой талант! И к тому же испортил обои!
Она сделала резкое движение рукой, — и надпись исчезла. А Белинда стала лихорадочно тереть ладонь, будто та была чем-то запачкана.
— Ну что ж, — объявила она азартно, — карты на стол, инквизитор! Моя сила против твоей. Победит один — либо ты, либо я. Третьего не дано. Не так ли?
На только что очищенной стене вновь появились алые буквы. Но на сей раз надпись была лаконичной:
«Так».
Площадь была залита густыми маслянистыми лучами полуденного солнца. Она стояла, там, на этой площади, задыхаясь от дыма и песочного зноя — стояла в сером позорном балахоне, тощая, грязная, измученная пытками, привязанная к сучковатому столбу колючей грубой верёвкой. Рыжий огонь, разгораясь, гудел у её босых ног.
Она расхохоталась.
Сквозь пелену едкого дыма она увидела, как исказились лица зевак на площади. Прежде им не доводилось видеть, чтобы ведьма, сжигаемая на костре, смеялась — и не истерично, не безумно, а звонко и весело. Впрочем, естественно: не подозревая о том, они впервые присутствовали при сожжении настоящей ведьмы, а не какой-то оклеветанной несчастной.
Огонь поднимался — неотвратимо, как приливная волна, несущая боль и разрушение. Но она сама — разве в её искалеченном теле не таится такая же тёмная сила, способная мучить, терзать, забавляться, обращая в пепел и прах? Разве она — не огонь?
Пламя достигло её груди, туго спелёнутой крест-накрест. Ею всё так же владел безудержный смех, вместо стонов и криков боли, которых так жадно ждала толпа. Этот смех был искренним, как у ребёнка, который резвится в прохладном ручье в жаркий июльский полдень.
Огонь взлетал ввысь, целовал её губы, — и она принимала его в себя — как вино, как кровь, как жизнь, как любовь, как свободу.
Страх, владевший людьми на площади, разрастался, точно грозовая туча. Её ни на миг не смолкающий смех повергал их в трусливое липкое оцепенение.
Она поискала глазами инквизитора. Он видел — он слышал — он был охвачен нестерпимым страхом, как она — огнём, — она засмеялась ещё исступлённей.
Нет, не надейся, жалкий фанатик, трясущийся от страха и злобы и исходящий жёлтой вонючей слюной, как бешеный пёс, — это не вопли мучительной боли, не мольбы о пощаде! Это смех — я смеюсь над тобой — ты слышишь?! Я смеюсь, а ты ничего уже сделать не можешь; ты бессилен, ты, жалкая тварь, ищейка, святоша, всё кончено, ты проиграл, я смеюсь над тобой, я смеюсь, я смеюсь…
— Умри, ведьма! — крикнул он; но не грозно, а визгливо и отчаянно, почти по-бабьи.
Она улыбнулась. Её губы, зацелованные пламенем, шевелились беззвучно, но в его голове каждое слово отдавалось ударами молота. Раскалённые гвозди пробивали его скорчившийся мозг.
Да, я умру, инквизитор, но и ты скоро умрёшь. И тогда ты окажешься в наших руках, в руках нашего рода, бессильный, беспомощный …
Огонь охватил её всю, — и вся она стала огнём. Рассыпалась жгучими светящимися искрами, превратилась в дым от костра и с ветром полетела прочь. Проносясь мимо инквизитора, она в последний раз расхохоталась, коснулась его лица, — влажного, как непропечённый хлеб, обмякшего от ужаса, — и он затрясся, дико озираясь.
Она унеслась в иные миры, забавляясь при мысли о том, что когда огонь догорит, на столбе найдут лишь обугленные тряпки — и больше ничего. Никаких следов сожжённого тела.
Простите меня, добродетельные горожане, что не оставила вам даже пары почерневших косточек на память.
Прощайте навеки — тесная голодная толпа, жадно ловившая ноздрями дым от моего костра.
До скорой встречи, святейший инквизитор…