Кино в системе искусств - [4]
О прямом влиянии кинематографа на современную прозу говорилось много. Влияние это несомненно, но вот что примечательно: как раз те писатели, которые наиболее заметно испытали на себе воздействие кино, сильнее всего проигрывают при экранизации. «Кинематографичность» Хемингуэя (особенно молодого Хемингуэя) бросается в глаза, он сам настойчиво подчеркивал ее, а вместе с тем это один из наименее пригодных для экранизации писателей. Американское кино много раз пыталось вытащить его на экран: есть картина «Фиеста», есть картина «Прощай, оружие!», есть картина, сделанная из ранних рассказов, есть «Старик и море» – и все это неважные картины. Хотя сам автор хвалил постановку «Старика и моря», мне кажется, что фильм не только хуже рассказа – это просто очень плохой кинематограф. Не выручает даже такой обаятельный и умный актер, как Спенсер Трейси.
Дело не только в том, что «кинематографичность» Хемингуэя только кажущаяся, что его основной прием – умолчание, а кинематограф неизбежно подробен.
Дело, как мне кажется, в том, что литература, воспринимая многие из уроков современного кинематографа… перерабатывает эту самую «кинематографичность» в чисто литературный прием, который трудно поддается обратному переводу на киноязык. Процесс становится необратимым.
Хороший кинематограф в свою очередь воспринимает уроки литературы сложными, а не прямыми путями. Лучший кадр – это тот, который очень трудно, а иногда и невозможно описать. Записи «Броненосца „Потемкин“ не дают представления о великой картине. Фильмы Чаплина невозможно записать без потери юмора и глубины мысли. Если пленка почему-либо исчезнет, величие Эйзенштейна или Чаплина будет недоказуемо. Лермонтов же или Чехов остаются великими независимо от множества дурных, посредственных или хороших экранизаций.
Появление авторского голоса и внутреннего монолога (и диалога) дало современному кинематографу оружие огромной силы. Свободный монтаж, свободно движущаяся камера, наблюдение подлинной жизни, отказ от живописной бутафории – все это сделало кинематограф незаменимым средством исследования современности. Я полагаю, что на седьмом десятке жизни это искусство начало высвобождаться от прямого подражательства соседним древним искусствам во всех своих элементах. Я убежден, что даже диалог хорошего кинематографа хорош только в живом произнесении, а положенный на бумагу должен делаться хуже, гораздо хуже, литературно хуже, ибо это не театр, где слово обнимает все, это кинематограф, где слово – это только часть. Глаз человека видит в десятки раз больше, чем слышит ухо. Так в жизни, так должно быть в хорошем кино.
Современный кинематограф стремится повысить активность зрителя, сделать его творческим соучастником того, что происходит на экране. Мне кажется, что это коренное обстоятельство. И, может быть, отсюда следует и второе: вместо привычно обструганного материала, призванного впрямую иллюстрировать мысль автора, построенного по специальным законам условного действия, – все больше внедряется подробное, углубленное наблюдение за куском жизни, за человеком и средой, за рождением и течением мысли.
Здесь важно то, что это наблюдение очень трудно, а иной раз просто невозможно выразить только в слове, то есть закрепить во всех подробностях и во всем богатстве в сценарии (во всяком случае, в тех сценарных формах, которыми мы владеем и которые сегодня становятся уже недостаточными). Зрелищная сторона кинематографа приобретает сейчас все большее значение. А то, что видишь, не так легко поддается перу и бумаге, как то, что слышишь.
Возьмем, например, крупный план. Он нес функцию чистого акцента в пластическом действии. В первой своей картине я построил несколько частей только на крупных планах. Каждому из них можно дать точное, краткое, односложное определение: планы любопытства, негодования, голода, жадности, еды, сытости, сонности, радости, гнева, ругани, восторга, лести, равнодушия, скуки и т. д. и т. п.
Ныне возможен крупный план чистой мысли, план как бы прямой беседы со зрителем в молчаливом, совместном с ним сочувствовании и сомышлении. Возможен крупный план совершенно неподвижного лица, на первый взгляд как бы ничего не выражающего: очень длинный крупный план, содержание которого должно дойти до зрителя не простейшим логическим путем, а путем «вчувствования» зрителя. Зритель должен сам задуматься и почувствовать то, что нужно автору. Другими словами, этот крупный план подсказывает зрителю путь, по которому тот должен идти, чтобы прийти к необходимому результату, а не дает этот результат уже сформулированным в действии, пусть немом, пусть самом скупом, как, например, в знаменитых «Страстях Жанны д'Арк».
То же самое можно сказать, например, о некоторых съемках с движения, когда аппарат скользит по лицам и предметам, казалось бы, не связанным с общим действием. Сейчас возможно пристальное разглядывание элементов жизни, которое требует от зрителя совершенно самостоятельного и глубокого осмысления. Раньше мы применяли такие проезды для простейшего назидательного вывода. Мы применяли проезд по убогим предметам обстановки, чтобы зритель сделал вывод: здесь живут бедные люди. Сейчас возможны гораздо более глубокие категории мысли и чувства, заложенные в таком проезде, не поддающиеся столь легкому определению в двух-трех словах.
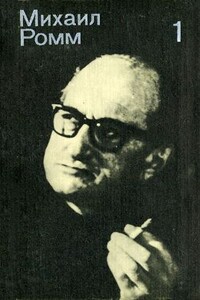
В первый том «Избранных произведений» известного советского кинорежиссера народного артиста СССР Михаила Ильича Ромма вошли его статьи и исследования, посвященные проблемам режиссуры, актерского творчества, а также материалы о взаимодействии кино с литературой, театром, телевидением.
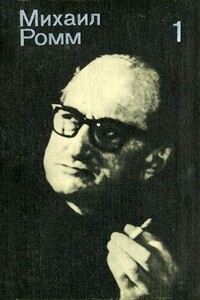
В первый том «Избранных произведений» известного советского кинорежиссера народного артиста СССР Михаила Ильича Ромма вошли его статьи и исследования, посвященные проблемам режиссуры, актерского творчества, а также материалы о взаимодействии кино с литературой, театром, телевидением.
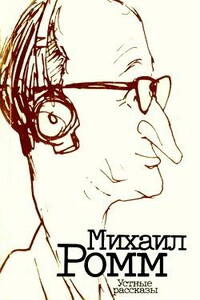
Дорогой читатель или дорогой слушатель, я не знаю, будет ли это напечатано когда-нибудь, а может быть, останется только записанным вот так на пленку, но, во всяком случае, я хочу предупредить тебя, дорогой читатель или дорогой слушатель, что не собираюсь писать или диктовать общепринятых воспоминаний. Я думаю, что жизнь моя не представляет собой такого интереса, чтобы занимать ею внимание других людей. Но в жизни каждого человека были интересные встречи, попадались интересные люди. Слышал он какие-то очень интересные истории.
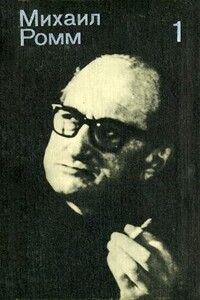
В первый том «Избранных произведений» известного советского кинорежиссера народного артиста СССР Михаила Ильича Ромма вошли его статьи и исследования, посвященные проблемам режиссуры, актерского творчества, а также материалы о взаимодействии кино с литературой, театром, телевидением.
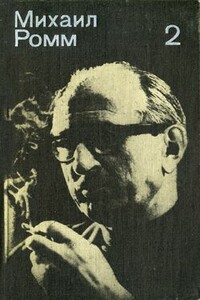
Второй том «Избранных произведений» М. Ромма включает материалы, непосредственно связанные с его фильмами, его творческой биографией. Над книгой воспоминаний, которую он собирался назвать «14 картин и одна жизнь», М. Ромм работал в последние годы. Делал наброски, письменно, а больше устно: на магнитофонную пленку наговаривал рассказы о своем творческом пути, о работе над фильмами и о людях, которые в них участвовали. Магнитофоном Ромм увлекся внезапно и возился с ним с веселой энергией, так во всем ему присущей.Им было написано предисловие, так и озаглавленное, — «14 картин и одна жизнь».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.