Кёнигсберг - [15]
Значит, так. Сейчас я возьму чемодан и уйду. Уйду. Уйду? Это не то же самое, что — пойду. Потому что пойду не на все четыре, а — в одну. От которой ключ. И пусть хоть сто Кать там дежурят. Я — с ней. Со всем своим багажом. С трусами-майками-Вебстером-хренобстером. С Другим Сартори и прабабушкой — Хозяйкой Черного Дома, с безумным отцом, с мамой и ее французским пальчиком, с братом Костяном, со всем-всем-всем, что есть я.
12
Дом. Ко времени же я вспомнил о доме. Я залез на шкаф, вытащил замотанную в тряпье и газеты трубу, из которой легко выскользнул стеклянный цилиндр с закругленной крышей, внутри которого и находился мой дом. Тяжелый, потому что фундамент и стены отец изготовил из мореного дуба. С черепичной крышей. С несколькими деревьями вокруг, наклонившимися под ветром в одну сторону и теряющими последние жаркие листья. И что-то еще что-то вроде мглистого мелкого дождя, пропадавшего, стоило лишь снять стеклянный колпак, чтобы зажечь огонь в камине, у которого в уютном развалистом кресле с вязаньем на коленях дремала моя бабушка. Вернув колпак на место, я возвратил и мглу, окружавшую дом, но она уже не была так холодна, непроницаема и враждебна: свет из камина пробивался в окошки, освещая мощные выступы фундамента и сложенное из тесаных валунов крыльцо перед надежно запертой дверью.
Дверь за спиной скрипнула. Я поднял руку и, не оборачиваясь, твердо проговорил:
— Геннадий, это — мой дом. Я обещал рассказать о нем только тебе.
Дверь снова скрипнула, и напротив за столом обнаружился Конь в костюме-тройке и с сигарой в зубищах.
— Любезный гуингм, — обратился я к нему. — Не изволишь ли ты принять более человеческий, черт возьми, облик, а улыбку свою вместе с зубищами повесить рядом с подковой?
— Тогда сними пальто и пиджак, капитан, — выставил встречное условие Гена. — И никто да не помешает нам отворить источник слов.
— Я не знаю, где он. — Я снял пальто, пиджак, развязал галстук и закурил предложенную Конем сигару. — А поскольку мы вдвоем, я только процитирую:
Гена положил свою лапищу на выпуклую верхушку стеклянного цилиндра и вполголоса проговорил:
Мы молча помянули моего брата, чьи стихи только что втуне прозвучали в общежитской комнате, и я попросил Коня вырезать из газетной бумаги три человеческие фигурки — такие, чтобы поместились в домике. Он сделал это быстро и ловко. Я твердой рукой расположил фигурки вокруг очага и нажал кнопочку в основании — фигурки вспыхнули, оставив на полу сизый след. Бабушка продолжала дремать над вязаньем.
— Но ведь они погибли не в огне, — возразил Конь. — То есть, я хочу сказать, пожара не было.
— Был. И еще какой! Сгорело все — все-все-все. Я бы до этого не додумался, если бы не Шекспир с его семьдесят третьим сонетом. Дай прикурить. — Я пыхнул ароматным дымом. — Вообще-то красоту этого сонета может оценить только знаток английской речи. Поверь мне на слово. Поэтому вопреки или благодаря Шекспиру — перед моими глазами богатый жаркий осенний лес, новенький, как из ювелирного магазина, — с ярко-золотыми ясенями на опушках, буроватыми дубами, мелкой медью осин и яркими монистами берез. После дождя колеи дороги наполнились синей прозрачной водой, на поверхности которой плавали листья орешника — золотисто-коричневые, и мы — отец, мама и я — шагали по обочине. С корзинкой — папа. А я с рюкзачком. Мама смешила нас, прыгая на одной ножке, а я с улыбкой смотрел на нее, вдруг вспомнив, как обрадовался, когда вдруг выяснилось, что у моей мамы — французский пальчик. Это всего-навсего фасон женских туфель такой — с открытым мыском. French toe. Французский пальчик. Но я был мальчонка, и я радовался этому пальчику и всем в школе говорил, что у всех мамы как мамы, а у моей мамы французский пальчик, и первый заливался смехом от счастья. Хотя чего здесь такого? Не пойму. Мне было смешно, радостно, мне было счастливо: у моей мамы — французский пальчик. И она хохотала, и посмеивался отец. Мы оторвались от грибников и шли своей дорогой — к старой заброшенной, полусгоревшей немецкой церквушке в лесу, площадка вокруг которой была вымощена круглым булыжником и окружена густейшими зарослями орешника, малины и черт знает чего еще. Иногда в хорошие дни мы выбирались туда на пикник. Слова такого не было. Говорили: "Посидеть у костра". Километра через полтора, миновав тоннель под узкоколейкой, мы свернули налево и вдоль насыпи спустя полчаса вышли к церквушке. У нее был купол такой — резной. Двенадцать узких стрельчатых окон. Ловушка для солнца. Был октябрь, бабье лето, солнце держалось низко — как раз в прорезях стрельчатых окон. В углу двора у нас был выложенный булыжниками очажок — скорее огороженное кострище. Мы наломали тонкого сушняка, постелили брезентовую плащ-палатку, разожгли костер и, сказав маме «ку-ку», отправились за дровами для настоящего костра. Сидя боком, она помахала нам рукой. Не успели мы свернуть за выступ ореховой рощи, как я вдруг ни с того ни с сего остановился и сказал: "Будет дождь". Отец посмотрел на небо и рассмеялся. "Почему ж тогда так темно?" — не унимался я, торопливо шагая за ним. "Дождя не будет, — сказал отец, выбирая путь к поваленной сосне. — Да и темно слишком сильно сказано. До настоящих сумерек далеко". Мы занялись делом. Отец укладывал в ровную кучу толстые сосновые ветки, которые ловко перевязывал ивовыми прутьями. Получились две солидные кучи. "Через орешник не продеремся, — сказал отец. — Пойдем-ка сразу на дорогу". Мы выбрались на дорогу и зашагали к церквушке. Мы издали увидели маму. Она лежала на боку и будто спала. Отец остановил меня и опустил свою вязанку на землю. Зачем-то взглянул на наручные часы. "Стой здесь, — приказал он. — Понимаешь? Ни с места". А сам спокойно зашагал вверх по булыжнику к дымившемуся костерку. Сколько мы отсутствовали? От силы полчаса. Ну, сорок минут. Я сел на свою вязанку. Отец присел на корточки перед мамой, зачем-то потрогал рукой ее шею. Оглянулся. Я встал, понимая: что-то случилось.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
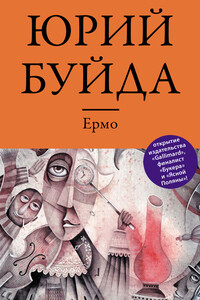
Кто такой Джордж Ермо? Всемирно известный писатель-эмигрант с бурной и таинственной биографией. Он моложе Владимира Набокова и старше Георгия Эфрона. Он – «недостающее звено» в блестящей цепи, последний из великих русских эмигрантских писателей.А еще его никогда не существовало на свете…Один из самых потрясающих романов Юрия Буйды, в котором автор предстает не просто писателем, но магом, изменяющим саму действительность!

Как это всегда бывает у Юрия Буйды, в горячей эмали одного жанра запекаются цветными вкраплениями примеси жанров других. Так и в этот раз: редкий в русской прозе плутовской роман обретает у автора и черты романа воспитания, и мета-романа, и мемуарно-биографической прозы. В центре повествования – Стален Игруев, «угловой жилец и в жизни, и в литературе». Талантливый провинциал, приезжающий в Москву за славой, циничный эротоман, сохраняющий верность единственной женщине, писатель, стремящийся оставаться твердью в потоке жизни, в общем, типичный русский человек, живущий в горящем доме.
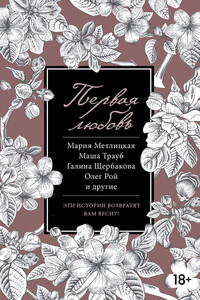
«Все возрасты любви» – единственная серия рассказов и повестей о любви, призванная отобразить все лики этого многогранного чувства – от нежной влюбленности до зрелых отношений, от губительной страсти до бескорыстной любви…Удачлив и легок путь, если точка отправления верна. Этот сборник, первый из серии о вехах любви, посвящен пробуждению чувств – трепетному началу, определившему движение. У каждого из нас своя – сладкая или горькая – тайна взросления души. Очень разные, но всегда трогательные истории о первой любви расскажут вам произведения этой книги, вышедшие из-под пера полюбившихся авторов.

Юрий Буйда не напрасно давно имеет в литературных кругах репутацию русского Зюскинда. Его беспощадная, пронзительная проза гипнотизирует и привлекает внимание, даже когда речь заходит о жестокости и боли. Правда и реальность человеческой жизни познаются через боль. Физическую и душевную. Ни прекрасная невинная юность, ни достойная, увитая лаврами опыта зрелость не ограждают героев Буйды от слепящего ужаса повседневности. Каждый день им приходится выбирать между комфортом и конформизмом, правдой и правдоподобием, истиной и ее видимостью.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Повести и рассказы молодого петербургского писателя Антона Задорожного, вошедшие в эту книгу, раскрывают современное состояние готической прозы в авторском понимании этого жанра. Произведения написаны в период с 2011 по 2014 год на стыке психологического реализма, мистики и постмодерна и затрагивают социально заостренные темы.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
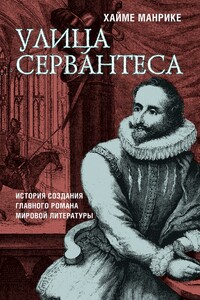
«Улица Сервантеса» – художественная реконструкция наполненной удивительными событиями жизни Мигеля де Сервантеса Сааведра, история создания великого романа о Рыцаре Печального Образа, а также разгадка тайны появления фальшивого «Дон Кихота»…Молодой Мигель серьезно ранит соперника во время карточной ссоры, бежит из Мадрида и скрывается от властей, странствуя с бродячей театральной труппой. Позже идет служить в армию и отличается в сражении с турками под Лепанто, получив ранение, навсегда лишившее движения его левую руку.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.