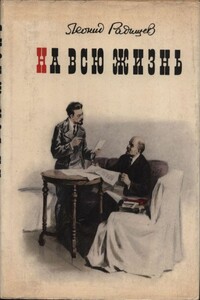Казанова - [129]
У самого въезда в город Джакомо услышал громкий топот. Он не испугался и не схватился за кинжал, ведь звук доносился не сзади, а спереди. Лишь когда всадник, не обратив на них внимания, проскакал мимо на взмыленном сивом коне, в лысом лихаче, яростно размахивающем саблей, Казанова узнал ближайшего дружка Браницкого.
Теперь можно было с уверенностью сказать только одно: ни в чем нельзя быть уверенным.
Finale
Жизнь — просто-напросто искусство самоограничения. Эта фраза уже не первый час вертелась в голове. Откуда она взялась? Черт знает. Вольтер? Пожалуй, нет. Какое самоограничение при его непомерных аппетитах? Но, с другой стороны, изречение вполне в духе нашего философа, очередной экземпляр из его коллекции банальностей. Итак, Вольтер. А может, и нет. Мало ли таких бесхозных афоризмов засоряют мозги. Хорошо, он попробует применить его к себе.
И потому даже не шелохнулся, когда — в который уж раз! — услышал шаги в коридоре. Не вздрогнул, когда в замке со скрежетом повернулся ключ и со стуком упал засов. Ничего интересного ждать не приходилось. Вероятно, тот самый детина в рясе, который тогда не пускал его в монастырь и уступил, лишь когда был повален на пол и обрызган кровью из раненой руки. Крадется — наверно, решил отомстить; служителям Бога не чужды земные слабости, а жилистым лапам может позавидовать профессиональный душитель. А, все равно. Он, Казанова, не станет сопротивляться. Не сумеет, не хочет, не в состоянии. Всему есть предел. Сколько можно ждать, прислушиваться к шагам за дверью, бросаться с надеждой к каждому переступающему порог остолопу, паясничать перед ним с пересохшим от волнения горлом, чтобы в конце концов выслушать кучу обещаний и снова томиться, как зверь, навечно заточенный в клетку? Сколько это продолжается, сколько — не дней, Господи Иисусе! — недель? Три, четыре?
Джакомо потерял счет времени, да и зачем нужно знать, какой день на дворе, если надежда убывает с каждым часом? Но на этот раз шорох, нарушивший внезапно воцарившуюся за дверью тишину, показался ему необычным. Почудилось? Он привык слышать такое по пять, по десять раз на дню, а сейчас ему это только приснилось… Нет — шорох повторился, стал громче, сменился покашливаньем, шепотом, чуть ли не смешками. Нет, это не может быть ни один из тех вельмож, что в первые дни слетались сюда, как мухи к гниющей падали, возбужденно гудели в коридоре, бренчали орденами и шипели от сдерживаемого смеха, когда он в сотый раз рассказывал, как Браницкий со стоном упал в грязь.
Верно, это один из неразговорчивых писарей, приносивших ему кипы книг и рукописей. Пошли они к черту со своим показным усердием! Он больше ни слова не напишет. Да, была у него охота, но пропала. Конец, schlub. Что написал, то написал. Сдержал свое обещание, пускай теперь Телок что-нибудь пообещает. Как минимум, пару верховых лошадей, полный кошелек и эскорт до границы, чтобы околачивающиеся возле монастыря головорезы, жаждущие отомстить за Браницкого, не вздумали помешать отъезду. А не захочет, не надо. Пускай историю этой несчастной страны ему пишут косноязычные придворные бездари. Хотя бы тот, что сейчас нетерпеливо топчется за дверью, горя желанием бросить на стол очередной опус об очередной национальной катастрофе или загубленных шансах на победу. Господи, что за люди! Что за народ! Столетие за столетием бредут навстречу гибели, пожираемые соседями и собственной гордыней. Точно слепы и глухи. Бог с ними! Он, во всяком случае, не станет больше заниматься чужими бедами — собственных хватает. И открывать им глаза не намерен, наоборот, закроет свои и попробует — по их примеру — слышать лишь то, что пожелает услышать.
Дверь громко скрипнула, словно одобряя его решение. Посетитель был уже внутри. Ну и пускай. Он не проронит ни слова. Не вскочит, о нет! с твердой, как камень, лежанки, не кинется приветствовать вельможного пана. Довольно. Не сдвинется с места, откажется принимать пищу, вообще от всего откажется. Пока его отсюда не выпустят. С королевскими почестями и с королевской охраной, ибо здесь надежная охрана важнее любых почестей.
Что-то зашуршало по каменному полу кельи — крыса? Шаги безмолвного посетителя? Дверь с тяжким стоном закрылась, а когда стон оборвался, вновь настала тишина. Тишина. Ключ в замке, кажется, не повернулся? Нет. Значит, это не королевский библиотекарь, а более важная персона. Какая разница? Кем бы незваный гость ни был, он пожаловал не вовремя. Господина Казановы нет. Уехал, победив на дуэли, провожаемый слезами друзей и заверениями в дружбе врагов. Здесь остался узник без лица и без имени, готовый терпеливо дожидаться торжества справедливости. Хорошо. Он им покажет, что такое искусство самоотречения. У них волосы встанут дыбом и отвалятся челюсти. Пожалуй, только дышать не перестанет, хотя и в этом не уверен. Даже испражняться будет под себя. Как бы ни разыгрался геморрой. Пусть увидят, что он действительно на все готов. Предпочитает заживо сгнить, чем и впредь забавлять эту свору. Молчанием заставит их призадуматься, а вонью — наконец что-то предпринять. Вот так-то! Прекратятся многолюдные паломничества к «нашему доблестному Казанове», и, быть может, кто-нибудь из этих молодящихся хлыщей подумает, как его отсюда вызволить, вместо того чтобы развлекать бесконечными однообразными рассказами, что Браницкий, как Браницкий, с кем Браницкий. Идите вы со своим Браницким куда подальше, чтоб я вас не видел! Меня не интересуют его заживающие кишки, у меня есть собственные, переворачивающиеся десять раз на дню от вопиющей несправедливости, которая победу превращает в поражение, а победителя — в узника, ждущего помилования. Насрать на такие порядки. Прямо сейчас, немедленно. Почему нет? Пусть этот, первый, все еще не решающийся заговорить смельчак увидит, что их ждет.

Роман Дмитрия Конаныхина «Деды и прадеды» открывает цикл книг о «крови, поте и слезах», надеждах, тяжёлом труде и счастье простых людей. Федеральная Горьковская литературная премия в номинации «Русская жизнь» за связь поколений и развитие традиций русского эпического романа (2016 г.)
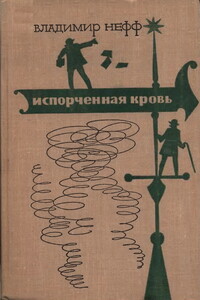
Роман «Испорченная кровь» — третья часть эпопеи Владимира Неффа об исторических судьбах чешской буржуазии. В романе, время действия которого датируется 1880–1890 годами, писатель подводит некоторые итоги пройденного его героями пути. Так, гибнет Недобыл — наиболее яркий представитель некогда могущественной чешской буржуазии. Переживает агонию и когда-то процветавшая фирма коммерсанта Борна. Кончает самоубийством старший сын этого видного «патриота» — Миша, ставший полицейским доносчиком и шпионом; в семье Борна, так же как и в семье Недобыла, ощутимо дает себя знать распад, вырождение.

Роман «Апельсин потерянного солнца» известного прозаика и профессионального журналиста Ашота Бегларяна не только о Великой Отечественной войне, в которой участвовал и, увы, пропал без вести дед автора по отцовской линии Сантур Джалалович Бегларян. Сам автор пережил три войны, развязанные в конце 20-го и начале 21-го веков против его родины — Нагорного Карабаха, борющегося за своё достойное место под солнцем. Ашот Бегларян с глубокой философичностью и тонким психологизмом размышляет над проблемами войны и мира в планетарном масштабе и, в частности, в неспокойном закавказском регионе.

Сюжетная линия романа «Гамлет XVIII века» развивается вокруг таинственной смерти князя Радовича. Сын князя Денис, повзрослев, заподозрил, что соучастниками в убийстве отца могли быть мать и ее любовник, Действие развивается во времена правления Павла I, который увидел в молодом князе честную, благородную душу, поддержал его и взял на придворную службу.Книга представляет интерес для широкого круга читателей.

В 1977 году вышел в свет роман Льва Дугина «Лицей», в котором писатель воссоздал образ А. С. Пушкина в последний год его лицейской жизни. Роман «Северная столица» служит непосредственным продолжением «Лицея». Действие новой книги происходит в 1817 – 1820 годах, вплоть до южной ссылки поэта. Пушкин предстает перед нами в окружении многочисленных друзей, в круговороте общественной жизни России начала 20-х годов XIX века, в преддверии движения декабристов.