Кавафис. Историческое и эротическое - [2]
Тем не менее, изложенное выше не объясняет, почему «Король Клавдий» обладает особенными качествами поэзии Кавафиса. Он ими наделен, с моей точки зрения, потому, что Кавафис лишает Клавдия «будущего», навязанного ему Гамлетом, и позволяет нам понять его в стороне от самого себя, до того, как роковой выбор был за него сделан. В подобном свете, до каких-либо последствий исторического действия, Клавдий предстает добродушным и любимым королем.
Свои эротические стихотворения Кавафис строит по тому же принципу, что и исторические: он отстраняет все грязные и недостойные обстоятельства, которые создают будущее индивида, и показывает его в отстраненном процессе существования, до того как он сделал конкретный выбор и до того как им завладевают обстоятельства. Или если они уже произошли, то Кавафис заставляет нас увидеть человека внутри них, как пулю внутри тела на рентгеновском снимке. Подобным методом он раскрывает не только собственную одержимость, но и некоторую моральную сторону, пускай ограниченную, но весьма сосредоточенную и напряженную. Можно проследить, как он обращается к изображению на порнографической фотографии:
Двусмысленность стихотворения опирается на мгновение, когда молодой человек позировал для фотографии. Несмотря на то, что его окружали все предметы его распада, эти сценические атрибуты представляли его будущее, а не то, чем он «обладает» на данный момент. Он обладает «божественным лицом», «эллинической любовью», поэзией существования, не опороченной последствиями. Магия Кавафиса заключается в сопоставлении неизменного существования (то, что я называю моментом выбора, происходящего до самих обстоятельств) и будущего, на которое он смотрит как на нечто пошлое и неуместное.
Он мастер потерянной возможности, постоянно напоминающий читателю о тех днях, когда он сам был молод и стоял на улице подле агентства путешествий, глазея через окно на брошюры и фотографии внутри. Подошел незнакомец и встал рядом с ним, тоже смотря в окно на ничтожную макулатуру. Отражаясь в стекле, их глаза встретились, и, когда оба слегка сдвинулись с места, их губы даже пересеклись; и ни тот, ни другой не осмелились заговорить, и каждый ушел в своем направлении, в одиночестве. Но один из них — возможно, что оба — вновь воссоздают это мгновение на протяжении многих бессонных ночей, то вожделенное начало неслучившегося вожделенного союза.
Это состояние, это пылкое пристрастие к неосуществленному прошлому, которое приводит Кавафиса к выводу, что порой эротическая память или желание являются гораздо более настоящими, чем сама проза жизни (и побуждают автора ошибочно связать их с поэзией), находит свое самое полное отражение в гомосексуальности, где, в свою очередь, можно увидеть проекцию собственной мечты на другого. По этой причине исторические стихотворения Кавафиса справедливо ставятся выше его эротических вещей; однако в них тоже можно найти такую же фиксацию на конкретном мгновении.
Кавафис, конечно же, принадлежит своему времени, в основном — findesiecle. Его ценности эротичны, так как они эстетичны (Джон Донн замечал, что тот, кто любит красоту превыше всего, в «чудовищах и юношах находит красоту»). Все мгновения его одержимости проявляются лучше всего в понятии «красоты». Отмечая это, мы помним, что Кавафис не только «жил» ради красоты, но и старался создать ее в своей поэзии.
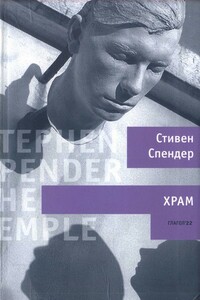
Стивен Спендер (1909–1995) — один из самых известных английских писателей, автор многих критических статей, стихов и воспоминаний. Написанный в 1929 году, роман «Храм» более полувека считался утерянным, и лишь случайно был обнаружен в архиве университетской библиотеки Техаса. Первая же публикация сделала книгу знаменитой. Это откровенный рассказ о приключениях двадцатилетнего поэта во время каникул в Гамбурге и путешествия по Рейну. Перед нами мир солнечных юношей, их дружба, вечеринки, сексуальность и особенно — культ загорелого обнаженного тела и природный гедонизм, исчезнувшие с приходом нацизма.

Автор этой книги, написанной как захватывающий детектив, задался целью раскрыть имя женщины, которая господствует во всем поэтическом творчестве великого поэта, начиная с лицейских лет, до его гибели. Пушкиновед Кира Викторова впервые заявила о том, что у Пушкина была единственная муза и тайная любовь – императрица Елизавета Алексеевна, супруга Александра I. Знаменитый же «донжуанский список» Александра Сергеевича, по ее версии, – всего лишь ерническое издевательство над пошлостью обывателей.Любил ли Пушкин одну Елизавету Алексеевну, писал ли с нее Татьяну Ларину, была ли императрица для него дороже всех на свете или к концу жизни он все-таки предпочитал Наталию Гончарову… – решать читателю.

В книге впервые собран представительный корпус работ А. К. Жолковского и покойного Ю. К. Щеглова (1937–2009) по поэтике выразительности (модель «Тема – Приемы выразительности – Текст»), созданных в эпоху «бури и натиска» структурализма и нисколько не потерявших методологической ценности и аналитической увлекательности. В первой части сборника принципы и достижения поэтики выразительности демонстрируются на примере филигранного анализа инвариантной структуры хрестоматийных детских рассказов Л. Толстого («Акула», «Прыжок», «Котенок», «Девочка и грибы» и др.), обнаруживающих знаменательное сходство со «взрослыми» сочинениями писателя.

Перед вами не сборник отдельных статей, а целостный и увлекательный рассказ об английских и американских писателях и их книгах, восприятии их в разное время у себя на родине и у нас в стране, в частности — и о личном восприятии автора. Книга содержит материалы о писателях и произведениях, обычно не рассматривавшихся отечественными историками литературы или рассматривавшихся весьма бегло: таких, как Чарлз Рид с его романом «Монастырь и очаг» о жизни родителей Эразма Роттердамского; Джакетта Хоукс — автор романа «Царь двух стран» о фараоне Эхнатоне и его жене Нефертити, последний роман А.

В новой книге Александра Скидана собраны статьи, написанные за последние десять лет. Первый раздел посвящен поэзии и поэтам (в диапазоне от Александра Введенского до Пауля Целана, от Елены Шварц до Елены Фанайловой), второй – прозе, третий – констелляциям литературы, визуального искусства и теории. Все работы сосредоточены вокруг сложного переплетения – и переопределения – этического, эстетического и политического в современном письме.Александр Скидан (Ленинград, 1965) – поэт, критик, переводчик. Автор четырех поэтических книг и двух сборников эссе – «Критическая масса» (1995) и «Сопротивление поэзии» (2001)

Исследование Ольги Ладохиной являет собой попытку нового подхода к изучению «филологического романа». В книге подробно рассматриваются произведения, в которых главный герой – филолог; где соединение художественного, литературоведческого и культурологического текстов приводит к синергетическому эффекту расширения его границ, а сознательное обнажение писательской техники приобщает читателя к «рецептам» творческой кухни художника, вовлекая его в процесс со-творчества, в атмосферу импровизации и литературной игры.В книге впервые прослежена эволюция зарождения, становления и развития филологического романа в русской литературе 20-90-х годов XX века.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.