Карнавал - [6]
— В Людвигсфесте, — объясняет мне она, — местные жители сразу вернулись с того берега, а их там было немало. Переправились через Рейн вплавь. Не стали дожидаться, пока их демобилизуют по всей форме. Были среди них и нездешние. Ну и началось большое веселье…
— Карнавал?
— Если угодно. Парни затевали повсюду танцульки, у нас много музыкантов, небольших оркестриков. Они плясали голые до пояса, несмотря на холод, разрисовав торс, у некоторых была татуировка. Здешние землевладельцы перепугались. Девушки побросали работу, крутили любовь с вернувшимися. Французы арестовали мужчин. Всех. Теперь они сами крутят любовь с девушками.
Что стало с парнями из Фор-Луи, с теми, кто себя разрисовал?
Бетти не знала. Сегодня она вышивает на пяльцах маки, не хочет ни петь, ни играть: «У меня насморк…», она повязала шею светло-коричневой газовой косынкой. Бетти, Эльзас ставит меня в тупик. Как вы жили раньше? Раньше? Она застывает с иголкой в руке. Раньше чего? Ну, при немцах… В общем… она говорит, «в общем», как будто приступая к рассказу, но на этом и останавливается. В конце концов она говорит нечто очень странное. Жили как жили, о жизни ведь не расскажешь… Но, Бетти, немцы… какие были взаимоотношения… как…
От моих вопросов брови ее вздергиваются, образуя прямую линию, и только кончики их неподвижны, точно закреплены на месте. Немцы… но ведь это мы сами немцы. О чем тут задумываться. Просто одни жили в Решвоге, другие в Страсбуре, или Мангейме, или в Берлине, или в Мюнхене. Право, Бетти, это вы говорите мне назло! А что бы сказали вы, Пьер, если бы вас спросили, какие у вас, парижан, взаимоотношения с марсельцами?
Значит, вы не чувствовали себя французами? Да мы и не были ими. Кое-кого притягивал Париж, французский пейзаж, Луара, ну, не знаю, как сказать? Есть же у вас англоманы. Но язык, Бетти, язык! В наших краях. Друг мой, всегда говорили на двух языках, не считая своего собственного. Ничего тут не изменилось. Конечно, я не прочь была бы съездить в Париж, послушать «Весну священную», но у нас была ведь и своя музыка. Мне довелось видеть Рихарда Штрауса. Любопытный человек. Я ездила в Берлин но семейным делам. Уже во время войны. Моего кузена убили на Мазурских болотах.
Я теряю надежду быть понятым, к тому же у Книпперле меня не покидает страх совершить какую-нибудь бестактность. Пожалуйста. Бетти, поиграйте, это не повредит вашему горлу. Она отложила пяльцы на диван, отодвинула клубок.
— Ну, — сказала она, — снова «Карнавал»? Но я сыграю только вторую часть…
И не надо петь, Бетти, вам вредно. Она сыграла вторую часть без своего обычного ла-ла-ла-ла. И когда она кончила, мне вдруг взбрела на ум фантазия, ужасно чахотелось услышать эту вещь Шумана, вы ведь ее знаете — «Haschemann». Она знала. Она сыграла мне эту игру в жмурки. А, вот оно, нужное слово: жизнь здесь даже не карнавал, а игра в жмурки.
…Жмурки. Haschemann, различие между двумя языками. Если нас запустить в язык с повязкой на глазах, кто за чем погонится, какие возникнут ассоциации идей, которых не дают словари?
Слушая Шумана по-французски, я вижу эту игру, всю ее жестокость, вижу, как те, у кого глаза открыты, злоупотребляют повязкой на моих глазах, насмехаются, предают дружбу, обманывают, водят меня за нос. Говорят, что французское название игры в жмурки — Colin-maillard — ведет начало от имени рыцаря, которому в канун тысячного года, в канун Великого Страха, во времена Робера Благочестивого, выкололи в бою глаза, где-то неподалеку от Льежа, но, и погруженный во мрак, он продолжал сражаться против графа де Лувэн, в кругу соратников, направляющих его, как то делают в Haschemann[9] криками: «Холодно! Холодно!
Горячо, горячо, сюда! Огонь!» Да, играешь вслепую, и всё вокруг, точно у Брейгеля, таит в себе опасность, утратив видимые формы, так что проступают лишь чудища, сокрытые в каждом из нас. Но в то же время слепой — король, которому даны неограниченные права над его незримыми подданными, буде он кого поймает; под предлогом узнавания ему дозволяется ощупать тело девочки или мальчика, ощупать душу, ставшую его добычей, и тут уж рыцарь Колен Порт-Майе, гнавшийся за фламандцами сквозь Арденнский лес, ни при чем. Это не детская игра. А о чем думал сам Шуман?
Я всегда обожал этот пассаж, его стремительность, Бетти. У меня когда-то, давным-давно, была приятельница, она часто играла мне «Haschemann».
— А, — говорит Бетти, — у вас, значит, была приятельница?
Я объясняю, что такова жизнь, и нет ничего удивительного в том, что у меня была приятельница, были же у нее немцы.
— Ну и ну, — говорит она, повернувшись ко мне на вращающемся табурете, — вы никак устраиваете мне сцену ревности, Пьер!
Бетти… Она улыбается. Ей приятно, что из всех ее имен я выбрал именно это. Почему? Да так. Раз ей это нравится…
Лейтенанты придумали себе забаву: едва начинает смеркаться, в полшестого, в шесть, они выходят на дорогу к Бишвиллеру, откуда являются сюда за молоком девушки. Наши берутся за руки и — преграждают им путь. Барышни отнюдь нс дичатся. Они охотно позволяют целовать себя, пока кувшины еще пусты. Мы шагаем по дороге в город, предлог найти нетрудно: у кухни всегда есть в чем-то нужда… На обратном пути мы снова встречаемся с нашими молочницами, но теперь полные кувшины препятствуют нашим шуточкам, из боязни пролить молоко девушки ставят их на землю; и поскольку тьма уже полная, некоторым парочкам случается заплутаться… У тех, кто принимает участие в развлечении регулярно, уже завелись знакомства, игра перестала быть игрой, превратясь в свидания… Но я включился в этот карнавал, в эти ночные жмурки позже других, так что выбирать не приходится, мне досталась девушка, несколько полноватая для своего возраста, она утверждает, будто ей шестнадцать, но по словам подружек — ей всего пятнадцать. Вероятно, она белокурая и розовая, с ямочками на щеках, вся кругленькая. Она говорит по-французски и велит мне называть ее Лени. Но я сразу почувствовал, что она вся дрожит в моих объятиях, целоваться совсем не умеет, а когда я дотронулся до ее груди, заплакала. Это ребенок. Я опасаюсь этих наших игр. Она сказала: «Научите меня…», но я не смею. От нее пахнет молоком. В буквальном и переносном смысле слова. Она сказала мне: «До завтра?» Я ответил: «До завтра…», но я не приду. Я не слишком большой специалист по просвещению девиц. К тому же мне немного жаль Лени.

Роман Луи Арагона «Коммунисты» завершает авторский цикл «Реальный мир». Мы встречаем в «Коммунистах» уже знакомых нам героев Арагона: банкир Виснер из «Базельских колоколов», Арман Барбентан из «Богатых кварталов», Жан-Блез Маркадье из «Пассажиров империала», Орельен из одноименного романа. В «Коммунистах» изображен один из наиболее трагических периодов французской истории (1939–1940). На первом плане Арман Барбентан и его друзья коммунисты, люди, не теряющие присутствия духа ни при каких жизненных потрясениях, не только обличающие старый мир, но и преобразующие его. Роман «Коммунисты» — это роман социалистического реализма, политический роман большого диапазона.
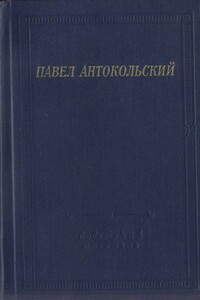
Более полувека продолжался творческий путь одного из основоположников советской поэзии Павла Григорьевича Антокольского (1896–1978). Велико и разнообразно поэтическое наследие Антокольского, заслуженно снискавшего репутацию мастера поэтического слова, тонкого поэта-лирика. Заметными вехами в развитии советской поэзии стали его поэмы «Франсуа Вийон», «Сын», книги лирики «Высокое напряжение», «Четвертое измерение», «Ночной смотр», «Конец века». Антокольский был также выдающимся переводчиком французской поэзии и поэзии народов Советского Союза.
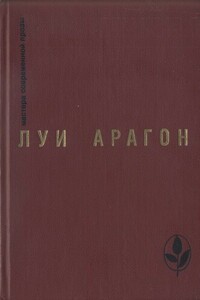
В романе всего одна мартовская неделя 1815 года, но по существу в нем полтора столетия; читателю рассказано о последующих судьбах всех исторических персонажей — Фредерика Дежоржа, участника восстания 1830 года, генерала Фавье, сражавшегося за освобождение Греции вместе с лордом Байроном, маршала Бертье, трагически метавшегося между враждующими лагерями до последнего своего часа — часа самоубийства.Сквозь «Страстную неделю» просвечивают и эпизоды истории XX века — финал первой мировой войны и знакомство юного Арагона с шахтерами Саарбрюкена, забастовки шоферов такси эпохи Народного фронта, горестное отступление французских армий перед лавиной фашистского вермахта.Эта книга не является историческим романом.

Евгений Витковский — выдающийся переводчик, писатель, поэт, литературовед. Ученик А. Штейнберга и С. Петрова, Витковский переводил на русский язык Смарта и Мильтона, Саути и Китса, Уайльда и Киплинга, Камоэнса и Пессоа, Рильке и Крамера, Вондела и Хёйгенса, Рембо и Валери, Маклина и Макинтайра. Им были подготовлены и изданы беспрецедентные антологии «Семь веков французской поэзии» и «Семь веков английской поэзии». Созданный Е. Витковский сайт «Век перевода» стал уникальной энциклопедией русского поэтического перевода и насчитывает уже более 1000 имен.Настоящее издание включает в себя основные переводы Е. Витковского более чем за 40 лет работы, и достаточно полно представляет его творческий спектр.

Собрание сочинений австрийского писателя Стефана Цвейга (1881–1942) — самое полное из изданных на русском языке. Оно вместило в себя все, что было опубликовано в Собрании сочинений 30-х гг., и дополнено новыми переводами послевоенных немецких публикаций. В третий том вошли роман «Нетерпение сердца» и биографическая повесть «Три певца своей жизни: Казанова, Стендаль, Толстой».

«Заплесневелый хлеб» — третье крупное произведение Нино Палумбо. Кроме уже знакомого читателю «Налогового инспектора», «Заплесневелому хлебу» предшествовал интересный роман «Газета». Примыкая в своей проблематике и в методе изображения действительности к роману «Газета» и еще больше к «Налоговому инспектору», «Заплесневелый хлеб» в то же время продолжает и развивает лучшие стороны и тенденции того и другого романа. Он — новый шаг в творчестве Палумбо. Творческие искания этого писателя направлены на историческое осознание той действительности, которая его окружает.

Во 2 том собрания сочинений польской писательницы Элизы Ожешко вошли повести «Низины», «Дзюрдзи», «Хам».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
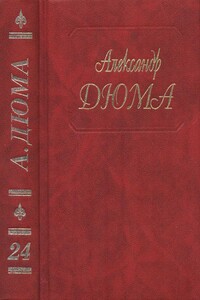
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
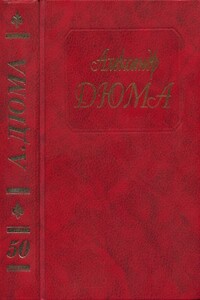
В этом томе предпринята попытка собрать почти все (насколько это оказалось возможным при сегодняшнем состоянии дюмаведения) художественные произведения малых жанров, написанные Дюма на протяжении его долгой творческой жизни.

