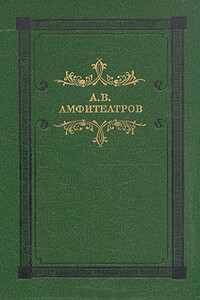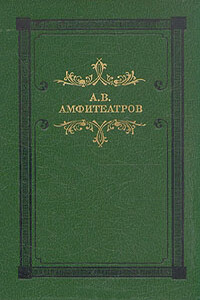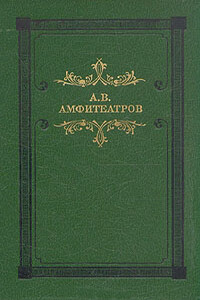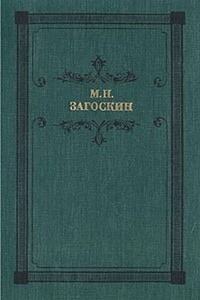После грозы погода изумительно похорошела. В ясном небе медлительно бродили серебряные облака. Озеро синело и тихо плескалось. Деревья весело лепетали. Влажный блеск листьев мелькал четким бисером. В воздухе носился теплый и свежий запах сена, смешанный с лекарственным ароматом липовых цветов. Птицы встрепенулись и переполняли аллеи звонким щебетаньем.
И на душе у Вари прояснилось. Недавнее возбуждение покинуло ее. Нервы улеглись… Воображение поникло. Она снова поехала в поле, посмотрела на сочные нивы, беззаботно игравшие с ласковым ветром, дозволила Домби сорвать жирный пук пшеницы, который он, однако же, тотчас же и бросил, проследила глазами голубой извив реки, обвела дали пристальным и каким-то деловым взглядом и возвратилась к усадьбе. Не доезжая дома, ее поразили звуки рояли. Они неслись откуда-то с вышины и, казалось, толпились в сверкающей синеве ясным и грациозным хороводом. И на душе у ней стало еще светлей и еще безмятежнее. «Откуда это» — произнесла она, как вдруг угадала пьесу — одну из серенад Шуберта — и догадалась, кто играет. «Это, конечно, Мишель!» — воскликнула она с сияющими глазами и поспешила к подъезду.
Наверху ее встретила Надежда. Лик ее был переполнен торжественностью и движения приобрели какую-то особливую важность: «Их сиятельство пожаловали. Прикажете одеваться?» — сказала она. Варя оделась быстро и просто. Ей все поскорее хотелось сойти вниз и посмотреть Облепищева. «Каков-то он?» — думала она с любопытством, и картины рождественского катанья привлекательными обрывками возникали в ее памяти.
— Кузина! — раздался певучий и мягкий голос, когда Варя появилась в дверях гостиной, и Облепищев, быстро покинув рояль, поспешил ей навстречу. — Какая же ты прелесть! Как ты похорошела! Какая ты пикантная! — говорил он по-французски, крепко целуя ее руки.
Она посмотрела на него. Тонкий профиль, прозрачная бледность лица, глубокие глаза с каким-то темным и неподвижным блеском — вот что бросилось ей в глаза. Он был очень мал, очень строен, одет во все черное, носил монокль в петлице жакета и имел порядочную лысину. И Варя вдруг почувствовала к нему какую-то жалость.
У окна сидел и говорил с Алексеем Борисовичем Лукавин. При входе Вари он встал. Облепищев подвел его к Варе.
— Позволь представить тебе, моя прелестная, — вымолвил он в каком-то нервном и торопливом возбуждении, — друг мой Pierre… — И добавил с едва уловимой гримаской: — Петр Лукьяныч Лукавин. Рекомендую: дохода полмиллиона, а с Тедески торгуется как лошадиный барышник.
— Граф ни на шаг без подвоха, — возразил Лукавин, улыбаясь, и низко раскланялся с Варей. Варя и на него посмотрела. Он стоял рядом с Облепищевым и как будто напрашивался на сравнение. И контраст был так велик, что Варя не могла сдержать улыбки. Статная, крепкая и осанистая фигура Лукавина, плотно и ловко обтянутая великолепным сюртуком, превосходила на целую голову изящного и хрупкого графа. Но зато лицо Лукавина не отличалось нежною тонкостью очертания, и нервы не сквозили в нем непрестанной игрою чутких мускулов, — оно было пышно и румяно, и печать великорусской смышлености явно лежала на нем. Зубы так и сверкали ослепительной белизною, серые глаза смотрели умно и насмешливо, коротко остриженная бородка придавала несколько купеческий облик… «Как он типичен!» — невольно подумала Варя.
Подали обед. К обеду пришел и Захар Иванович. Облепищев поместился рядом с Варей. Он почти ни до чего не дотрагивался. Ложки три супу да кусочек куриной котлетки, вот все, что проглотил он за весь обед. И все как-то жался и болезненно морщился, как бы от озноба. Но речь его, порывистая и капризно разнообразная, не утихала ни на минуту. Он то рассказывал о новостях Ниццы — откуда только что приехал, то о впечатлениях дороги, то сообщал какую-нибудь сплетню политического свойства, то восторгался новой пьеской Рубинштейна. И эти капризные переходы, этот певучий и гибкий тон графа, эта мягкая и несколько грустная насмешливость, которой он беспрестанно освещал свои рассказы, ужасно нравились Варе. В ней самой просыпалось какое-то мечтательное и ласковое настроение, и под влиянием этого настроения Мишель все более и более казался ей меньшим братом, больным и милым и несколько загадочным.
А Лукавин преисправно уничтожал и суп, и котлеты, и цыплят à la crapaudine[28], которыми щегольнул-таки Лукьян, и ананас, поданный с шампанским, и дыню-канталупу… А в промежуток говорил с Захаром Иванычем и с Волхонским. Впрочем, больше с Захаром Иванычем, чем с Волхонским. Он расспрашивал Захара Иваныча о хозяйстве, о качествах земли; спрашивал, можно ли устроить в окрестности сахарный завод, какой процент сахара можно ожидать в здешней свекловице, каковы должны бы быть условия сбыта, велик ли подвижной состав у ближней железной дороги, как можно эксплуатировать отбросы… И, видимо, оставался доволен обстоятельными и дельными ответами Захара Иваныча.
Пить кофе перешли в гостиную. Граф свернулся на pâté[29], которое по его просьбе придвинули боком к рояли, от времени до времени прикасаясь длинными и прозрачными своими пальцами к клавишам, медленно кусал ломтик ананаса, предварительно опуская его в вазочку с шампанским. Варя поместилась около него.