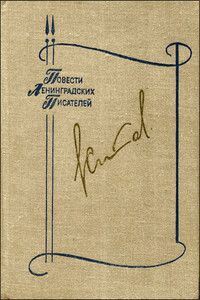Камыши - [47]
Так, возможно, наметилась первая трещина в наших отношениях. И это мне нужно было понять еще тогда… Но тогда уже подступала весна. А потом очень быстро ворвалось, накатилось лето, пляжное, отходчивое, шашлычное, кооперативное, деловое, оглушенное трубящими электричками, заваленное гарнитурами, кухнями и сияющими слитками будущего на паркете, покрытом не нашим непрочным, а обязательно польским лаком…
…Неясный шум, приблизившись, снова превратился в бряцанье ложек, сопение, кряхтение, старческий кашель. Значит, бесконечный пир за тем длинным столом продолжался. Входят, уходят, сидят, но не говорят, а вздыхают. Я, очевидно, просыпался, смотрел на ведро со льдом и тут же засыпал опять. Однажды чьи-то грузные шаги остановились и замерли возле меня.
— Начальство? — произнес безразличный голос.
— А бог его… Из Москвы, — прокашлял кто-то как будто за шторой, так далеко от меня, глухо. — Сам лежит, а у него, может, аппарат слухает, записует. А чего слухать? Из Темрюка уже слухали. Ну, слухай… Сажай…
В этом голосе тоже не было ни тревоги, ни злости, ни раздражения, никаких вообще эмоций.
— Им премию дают, если найдут, кто убил, — сказал новый голос.
Я откуда-то знал, может быть раньше видел, что все стены вокруг увешаны длинными белыми гирляндами рыбы. Мне казалось, что эти рыбы живые, что эти гирлянды дергаются, и смотреть на них не хотелось. Где же я находился? В самом воздухе этой раскрытой настежь комнаты, в этих вялых, уставших, иногда прорывавшихся ко мне голосах, в этих медленно, как будто нарочно медленно шаркавших шагах, в бесцветных одеждах этих людей, в их почти безразличном отношении к тому, кто именно лежал на этой кровати, было что-то полуреальное.
— У них на особое задание книжка в банке. Без счету. Вот и деньги, — донесся совсем уже слабый голос, который я вот-вот мог потерять. — Ты в ресторан — и он. Ты пол-литру — и он. Ты в Анапу — и он. И каждую машину взять на дороге может. Хлеба нарежь-ка…
В этой комнате была невесомость — вот что! Все двигались без напряжения, и не ходили, а плавали. Появлялись и уплывали… Старики-космонавты…
— Не, кум, сядай тут. — Этот надтреснутый голос дрожал, как перегоревший волосок в лампочке. — Це не то. Кама казала, то писатель. Тут як что — в прессу. О! Еще хуже.
— А кто каже, перекупщик. Спекулянт из Ростова, — вступил другой, новый голос. — На-ка стакан… за упокой… Графин-то…
Я боялся, что, открыв глаза, снова увижу перед собой слепящее желтое пятно.
— А-а-а-а, — протянул тот, кто стоял возле меня или сидел совсем рядом, потому что слова были громкие, отчетливые… — Ну, пусть поглядит на Ордынку. А я думал, опять лектора нам… Кириллов, беги до Румбы…
Меня на секунду как будто даже отпустило, и голова стала почти без обруча. Ордынка… Так вот это и есть та самая Ордынка, куда приглашала меня Настя и где сперва я должен был найти Прохора, который, как выяснилось, не был придуман. Это и есть ее Ордынка… Но странно, я почему-то уже не хотел увидеть здесь Настю. Не ощутил даже любопытства, только какой-то тупой, неприятный толчок, постепенно разлившийся во мне предчувствием чего-то смутного, неопределенного. Это — Ордынка… Те двое, которые привезли меня сюда и черной лодке, — Цапля и Голый. КОСАРИ… И у меня был блокнот. Записи очень важные… Они сказали мне, что никакой Насти в Ордынке нет и не было. А Назарова, может быть, убил Прохор. Но это имя она и записала мне на салфетке… Что же такое не понравилось им в моем блокноте? Они, возможно, знали, кто убил Назарова. Голый, похоже, фрукт. А Цапля еще мальчишка, который попал под влияние… Но я оказался в Ордынке… А ведь они везли рыбу… в Темрюк… довольно много, и я увидел…
Нет, я не хотел, чтобы в эту комнату вдруг вошла Настя, которая была чем-то связана с каким-то Прохором. И лучше я разыщу Настю потом, где-нибудь, скажем, в Ростове, где угодно, только не здесь. А кто эта Кама, откуда-то знавшая, что я писатель? «Кама казала…» Какое необычное, редкое имя… Что же такое я записал в свой блокнот, и чем он помешал косарям? Кроме того, у меня были деньги, довольно много денег, и еще полиэтиленовая пробирка с лекарством для Степанова… Я, наверное, мог вспомнить то, что записал… Мог бы…
И постепенно весь этот наплывавший, гудевший во мне хаотический перезвон ощущений, догадок, чужих слов, стал выстраиваться, приобретать ритм, смысл настойчивый, определенный и теперь уже не исчезавший; мне нужно в Темрюк. То, что я записал в свой блокнот, и то, что я мог вспомнить, было нужно совсем не мне, важно совсем не мне, и я должен сейчас же встать и попасть в Темрюк, чтобы поговорить со Степановым, чтобы все узнать, услышать от него самого и, если еще не поздно, что-то предпринять, изменить, предупредить. Если только не поздно. Мне надо возвращаться в Темрюк. Вот это самое главное, важное…
Была в этой мысли и некая отвлеченность. Словно заставить себя пошевелиться, открыть глаза, а потом уже встать с этой железной кровати и ехать и Темрюк должен был не я, не совсем я, а кто-то другой вместо меня, кто мог сделать это без промедления, тут же.
Затянувшийся и словно шушукавшийся пир за тем длинным столом вокруг белого алюминиевого таза почему-то был грустным, вздыхавшим, был как будто тягостным и вынужденным, и эти вдруг в полной тишине стучавшие друг об друга стаканы… Так пьют за мертвого… хотя нет, за мертвого пьют как раз не чокаясь… А гирлянды холодной рыбы — украшение этого мрачного праздника. И незаметно опять побежали пустые минуты, а может быть, и часы… Я увидел Олю, которая, бедная, плакала от польского лака, стоя без юбки, в черных колготках среди блестевшего паркета новой квартиры. И снова гудели электрички. Мимо окон бежали, мелькая, сосны. И я не сразу узнал себя в человеке, одетом в темно-серый с засученными рукавами свитер и сидевшем среди разбросанных возле сарая бревен и досок. Потом появился красивый желтый портфель. И, значит, это уже приехал ко мне, уже идет по дорожке тот Олин знакомый, психиатр. Но неожиданно лента порвалась…

Прозу Любови Заворотчевой отличает лиризм в изображении характеров сибиряков и особенно сибирячек, людей удивительной душевной красоты, нравственно цельных, щедрых на добро, и публицистическая острота постановки наболевших проблем Тюменщины, где сегодня патриархальный уклад жизни многонационального коренного населения переворочен бурным и порой беспощадным — к природе и вековечным традициям — вторжением нефтедобытчиков. Главная удача писательницы — выхваченные из глубинки женские образы и судьбы.

На примере работы одного промышленного предприятия автор исследует такие негативные явления, как рвачество, приписки, стяжательство. В романе выставляются напоказ, высмеиваются и развенчиваются жизненные принципы и циничная философия разного рода деляг, должностных лиц, которые возвели злоупотребления в отлаженную систему личного обогащения за счет государства. В подходе к некоторым из вопросов, затронутых в романе, позиция автора представляется редакции спорной.

Сюжет книги составляет история любви двух молодых людей, но при этом ставятся серьезные нравственные проблемы. В частности, автор показывает, как в нашей жизни духовное начало в человеке главенствует над его эгоистическими, узко материальными интересами.

Его арестовали, судили и за участие в военной организации большевиков приговорили к восьми годам каторжных работ в Сибири. На юге России у него осталась любимая и любящая жена. В Нерчинске другая женщина заняла ее место… Рассказ впервые был опубликован в № 3 журнала «Сибирские огни» за 1922 г.

Маленький человечек Абрам Дроль продает мышеловки, яды для крыс и насекомых. И в жару и в холод он стоит возле перил каменной лестницы, по которой люди спешат по своим делам, и выкрикивает скрипучим, простуженным голосом одну и ту же фразу… Один из ранних рассказов Владимира Владко. Напечатан в газете "Харьковский пролетарий" в 1926 году.

Прозаика Вадима Чернова хорошо знают на Ставрополье, где вышло уже несколько его книг. В новый его сборник включены две повести, в которых автор правдиво рассказал о моряках-краболовах.