Камень и боль - [7]
Бандини положил на стол свои гладкие холеные руки с ногтями, подпиленными на четверть, как требовала последняя мода у женщин, и снова скользнул холодным, немного насмешливым взглядом по молчаливому лицу старого Якопо. Старик, конечно, никогда не читал сочинения Сенеки "О покое душевном". Жаль! Может, стоило бы кое-что рассказать ему об этом?.. Теперь? Он улыбнулся и расчесал свою надушенную бороду. Неплохая шутка… Но почему я сижу здесь? Он пожал плечами. Это меня забавляло. Сначала Медичи, Сикст… он опять иронически улыбнулся. Но Флоренция? Глаза Бандини стали строгими, словно вдруг увидели какой-то текст, в смысл которого он не мог проникнуть. Сенека говорит: "И тот, у кого в битве отрублены руки, сумеет хоть призывом и ободрением споспешествовать своему народу. Подобно ему поступай и ты, и если судьба отстранит тебя от первого места в государстве, ты все же стой и помогай голосом, если же кто и горло тебе сдавит, опять-таки стой и помогай молчанием…"
Если же кто и горло тебе сдавит… Вдруг мороз подрал его по коже. Трепет тайного страха пробежал по нервам, у него потемнело в глазах, руки опустились. Он чуть-чуть побледнел. Но тут же опамятовался и, не умея объяснить себе причины, перестал об этом думать.
Третий ожидающий — Джакомо Пацци. Он старается держаться спокойно, но лицо изобличает его. И руки нервны, суетливы, тревожны. Он пьет вино короткими жадными глотками и, подливая, всякий раз стукает со звоном кувшином о бокал. Он самый младший среди них, почти одного возраста с Франческо, ожидаемым теперь из Рима. Смоляные черные кудри обрамляют лицо его, молодое, бледное, женственно прекрасное. Да, он прекрасен, и Франческо любит его, и Леонардо да Винчи, и мессер Боттичелли. Он прекрасен, но в глазах его горят странные огоньки, как в глазах отчаявшегося. Джакомо не верит ни в бога, ни в папу. Джакомо хотел бы верить — верить в бога и в папу. Джакомо не может верить, как не может верить его друг Пьер Паоло Босколи — платоник. Но Джакомо не может быть и платоником. Джакомо отчаянно старается верить и проводит целые ночи на коленях перед алтарем в Санта-Мария-Новелла, чтобы в другие ночи богохульствовать, богохульствовать страшно, неистово. Джакомо чувствует в сердце своем змеиные зубы, понемногу впивающиеся в него, — не сразу, а медленно, медленно, неторопливо и чем дальше, тем все медленней. Когда он слушает слово божие, зубы впиваются сильней, и сердце полнится клокочущим ядом. Джакомо просит бога смиловаться над ним и знает, что бог его не слышит. Порой ему кажется, что он существует в двух лицах, хотя и в одном образе. Тот, второй Джакомо делает всегда не то, что я, но и он тоже — я. Не раз испытывал он нежелание возвращаться домой, оттого что тот, второй Джакомо уже сидит там и ждет его. Что сказать ему и каков будет ответ? И даже если б тот, другой, вдруг расплылся, исчез, Джакомо никогда бы не поверил, что это была просто галлюцинация, — конечно, продолжал бы что-то говорить ему, и прошло бы немало времени, прежде чем он услышал бы свой собственный голос в пустой комнате, оторопелую речь ни к кому. Рассказываю о себе призракам, а их нет передо мной, это — опять я. Обращаюсь к себе, и никто мне не отвечает. Жду самого себя, как другого человека. Я ничего не знаю о себе. Жду большего, чем вы оба. Жду откровения, некоего чуда, чего-то, что изменило бы меня, мое "я"… Джакомо не верит в человеческое естество Христа…
Трое сидели за столом. Старик Якопо с каменным лицом, — опершись на меч; Бандини, для которого жизненные явления часто лишь повод к тому, чтобы скривить губы в иронической гримасе, — опершись на плащ своей скуки; Джакомо, который ждет большего, чем просто послов из Рима, — подперев голову рукой. Жизни, которые мы не сумели прожить, отходят от нас и либо угасают, либо летят куда-то, чтобы где-то там, в другом месте, осуществить свою участь и назначение. Как помешать этому раздвоению жизни? Джакомо не знает, что это можно сделать лишь простым и смиренным жестом, сложением рук, — с ладонями, прижатыми к груди, и пальцами, воздетыми к богу.
Трое сидели за столом, каждый со своей жизнью. Ждали молча. А ночь обвела их большим кругом, будто с помощью магического перстня.
Трое сидели за столом.
Четвертый висел над ними на кресте…
Это был древний крест рода Пацци. Тело Христово было здесь вздыблено в ужасающе правдивой, верно схваченной судороге умирания и покрыто большими разверстыми ранами, ссадинами и синяками. Судорожно сведенные, перебитые колени выпирали острым углом, разодранные диким волочением по земле. Тело было скорбное, таинственное, лихорадочное, истерзанное и до сих пор все кровоточило. Новая, светлая кровь, бьющая ключом из прободенного бока и смешанная с водой, заливала струпья и коричневатые пятна уже запекшейся крови. Это тело было сплошной свежей раной, мучительно обнаженной, и в некоторых местах под содранной кожей открытая мускулатура еще трепетала в невыразимых муках. Лицо успело посинеть, стало пепельно-серым; голову, наклоненную к плечу, с которого свисал лоскут кожи от большой глубокой ссадины, оставшейся после несения креста, непрестанно терзали длинные и острые, как сталь, шипы тернового венца. Шипы эти, оставшиеся целыми, торчали ввысь, не то раскаленные солнцем, не то красные от крови — трудно понять, но это были ощетиненные багряные прутья, туго сжимающие голову осужденного. Полуоткрытый рот, пересохший от неугасимого жара, жаждал еще мучений, сгорал по ним, — этот рот не говорил: "Довольно! Не надо!" Губы посинелые, полиловевшие, но узкие волны их по краям уже почернели от запекшейся крови. Истерзанное тело обвисло на гвоздях, клонясь. Глаза, не угасшие, а зрячие, были устремлены всегда в упор на смотрящего, полные мук от испытанных надругательств и ненависти, полные праха и полные последним взглядом Матери. Разодранные длани пронзены гвоздями, и судорожно, веерообразно растопыренные пальцы их врезают в тяжкий, свинцовый воздух таинственные, мистические знаки, письмена жизни. Терновый венец, страшное и царственное украшение оставленности, огромен, и ощетинившиеся, длинные, неустанно язвящие острия его, благодаря наклону головы к плечу, затеняли глаза. Каждый смотрящий в эти глаза видел их неподвижный взгляд лишь сквозь эту тень.
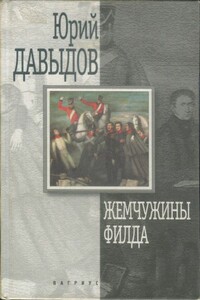
В послеблокадном Ленинграде Юрий Давыдов, тогда лейтенант, отыскал забытую могилу лицейского друга Пушкина, адмирала Федора Матюшкина. И написал о нем книжку. Так началась работа писателя в историческом жанре. В этой книге представлены его сочинения последних лет и, как всегда, документ, тщательные архивные разыскания — лишь начало, далее — литература: оригинальная трактовка поведения известного исторического лица (граф Бенкендорф в «Синих тюльпанах»); событие, увиденное в необычном ракурсе, — казнь декабристов глазами исполнителей, офицера и палача («Дорога на Голодай»); судьбы двух узников — декабриста, поэта Кюхельбекера и вождя иудеев, тоже поэта, персонажа из «Ветхого Завета» («Зоровавель»)…
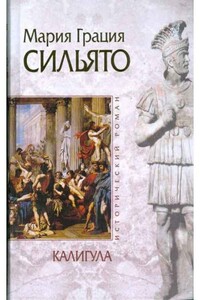
Одна из самых загадочных личностей в мировой истории — римский император Гай Цезарь Германии по прозвищу Калигула. Кто он — безумец или хитрец, тиран или жертва, самозванец или единственный законный наследник великого Августа? Мальчик, родившийся в военном лагере, рано осиротел и возмужал в неволе. Все его близкие и родные были убиты по приказу императора Тиберия. Когда же он сам стал императором, он познал интриги и коварство сенаторов, предательство и жадность преторианцев, непонимание народа. Утешением молодого императора остаются лишь любовь и мечты…
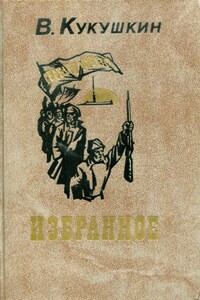
В однотомник известного ленинградского прозаика вошли повести «Питерская окраина», «Емельяновы», «Он же Григорий Иванович».

Кен Фоллетт — один из самых знаменитых писателей Великобритании, мастер детективного, остросюжетного и исторического романа. Лауреат премии Эдгара По. Его романы переведены на все ведущие языки мира и изданы в 27 странах. Содержание: Кингсбридж Мир без конца Столп огненный.
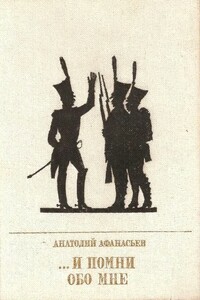
Анатолий Афанасьев известен как автор современной темы. Его перу принадлежат романы «Привет, Афиноген» и «Командировка», а также несколько сборников повестей и рассказов. Повесть о декабристе Иване Сухинове — первое обращение писателя к историческому жанру. Сухинов — фигура по-своему уникальная среди декабристов. Он выходец из солдат, ставший поручиком, принявшим активное участие в восстании Черниговского полка. Автор убедительно прослеживает эволюцию своего героя, человека, органически неспособного смириться с насилием и несправедливостью: даже на каторге он пытается поднять восстание.

Беллетризованная повесть о завоевании и освоении Западной Сибири в XVI–XVII вв. Начинается основанием города Тобольска и заканчивается деятельностью Семена Ремизова.