Каленая соль - [36]
– Сызнова, поди, налукавил, государюшко? – не почитая в мирской беседе благолепных словес, наконец впрямую спросил царя язвительный патриарх. – Того берега отплыхом, а другого не хватихомся. Что посулил-то?
Василий Иванович не почел нужным укорить Гермогена за неподобное к нему обращение: груб патриарх, да худа против него не держит.
– Самому тебе вдогад, патриарше, – ответствовал Шуйский, чувствуя неуютство под суровым взглядом церковного владыки. – Вопом вопиет изнемогшая Москва, еле унял до малого срока.
– Горький бо плод аще помажется медом, – наставительно промолвил патриарх, – не отлагает горчины своея в сладость. Хлеб насущный людишкам надобен, а не увещевания.
– Все в руце божией. Негде хлеба взяти.
– Негде? – патриарх перевел горящий взгляд с царя на Авраамия. – Така пора приспела, что и заповедным поступиться не грех.
Келарь потупил очи, будто патриархов намек вовсе его не касался. Зато Шуйского осенило.
– А и впрямь, житницы на троицком подворье не початы. Хлеб-то в них, чаю, весь цел.
– Троица премного горше лихо сносит, – уклончиво заговорил келарь. – И мне ли у моей братии последнее имати? Доносят из обители, что трупием уж по некуда завалена…
Ни царь, ни патриарх не прервали Палицына, пока он рассказывал о бедствиях многострадальной Троицы. Даже сущие мелочи были ему ведомы. Чуть ли не изо дня в день извещал о том келаря его «вскормленник» дьякон Гурий Шишкин, на забывая в своих посланиях наговаривать на старцев, мешающих ему занять сытное место казначея. Авраамий поощрял козни и наветы «вскормленника». Чем больше раздора было в Троице, тем выше становилась цена верности келаря, упреждающего и уличающего перед царем всякую измену и крамолу.
Но, одобряя радение Палицына, царь, однако, не задумывался, почему не единожды не пресеклись связи у келаря между осажденной Троицей и запертой Москвой. Мыслил об ином: усердствуя, надеется угодник потерянное в опале и отданное в казну именьице из закладной кабалы вызволить, хоть и заповедано монахам землю в залог брать. Бог бы с ним, от малой убавки государева казна не оскудеет. Однако же мешкал с воздаянием Шуйский, скупясь и на малое. Теперь, слушая келаря, он догадливо вникал в его ловко вплетенные в рассказ сетования о небрежении к нуждам монастыря.
– Одним святым Сергиевым духом держится Троица. Аще я умолчу о сем, то камение возопиет, – закончил, тяжко вздохнув, келарь.
– Сокрушатися и нам заедино с тобою, – посочувствовал Шуйский, сохраняя печаль на лице, но в голосе его уже не было и следа безысходности. – Излияся фиал горести на всякого из нас. Дорога нам Троица, воистину мила, но ей без Москвы не бысть. Воспрянет Москва – воссияет и Троица. Без вспоможения ее не оставим. – Шуйский на мгновение замолк, выпрямляясь и стараясь обрести величественную осанку, словно сидел на престоле. – И тебя, целомудренный Аврааме, за усердие твое отличим, имением поступимся и пошлин своих на нем, по осадному времени, искати не повелим. Всякому способнику нашему воздадим по чести. Токмо… Токмо ныне о Москве пущая наша печаль.
– Видит бог, – оборотился к иконам келарь, – на Голгофу, аки и он, иду, у несчастной братии последнее имаю. Пущай на мне будет грех – отворю житницы.
Палицын приложил ладонь к глазам, якобы скрывая набежавшие слезы.
– Зри, государюшко, сие, подыми очеса и зри, – обратился к Шуйскому помягчевший архипастырь. – Не щадит себя ради благого дела божья-то церковь.
Но воспрянувшего духом царя занимало уже только земное.
– По былой цене хлеб уступишь, – наказал он келарю.
– Льзя ли? Братию же по миру пущу! – воспротивился Палицын, с лица которого сразу сошла херувимская просветленность, и оно напряглось и затвердело.
– Сук под собой сечешь, кесарь, – грозно вступился за келаря Гермоген и стукнул посохом об пол. – Жаден ты на свое, да вельми щедр на чужое. Себя подымаешь, а других опускаешь. Доброхотом все одно не прослывешь!
– Не повелеваю, а молю, – беззащитно помаргивая глазками, пошел на попятную смутившийся от такой злой отповеди царь, но тут же примолвил твердо: – Воля ваша положить цену, а больше двух рублев за четь никак не можно. – И, вспомнив яростную толпу, вдруг затопал и завизжал: – Вы тоже погибели моей ждете!
Глядя мимо царя, патриарх поднялся и стал креститься.
– Буди, господи, милость твоя на нас, яко же уповахом на тя!..
3
После обеденной трапезы великий государь хотел пройти в опочивальню, но внезапно явился брат – Дмитрий Иванович, тонкогласый, белолицый, с ухоженной бородой, в прошитом золотой нитью блескучем кафтане и польских сапожках на высоком каблуке, не по возрасту и дородству вздорен и вертляв. Он, видимо, упивался своим превосходством, почитая себя вторым человеком после царя, но к тому же прозорливее и расторопнее его. Поэтому невпопад и в по меху докучал советами. По несчастью, не он один. И младший брат, Иван Иванович, которого в народе за малый рост и въедливость прозвали Пуговкой, не прочь был посуесловить, не стеснялся даже наветов. Однако ни тот, ни другой не прославили себя ничем, кроме непомерной спеси, глупой зависти, преклонения перед иноземным, а также позорных поражений, которыми кончались все их воинские подвиги. Воеводами они были такими, что от них даже кони шарахались.
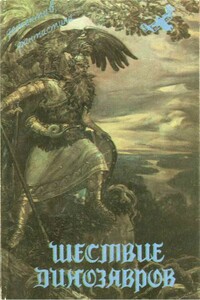
Долголетняя смута царствует на Москве: ляхи, черкасы, изменники-бояре, смутьяны и самозванцы разоряют русскую землю, а в Нижнем Новгороде собирает ополчение посадский человек Кузьма Минич…

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Заслон» — это роман о борьбе трудящихся Амурской области за установление Советской власти на Дальнем Востоке, о борьбе с интервентами и белогвардейцами. Перед читателем пройдут сочно написанные картины жизни офицерства и генералов, вышвырнутых революцией за кордон, и полная подвигов героическая жизнь первых комсомольцев области, отдавших жизнь за Советы.

Жестокой и кровавой была борьба за Советскую власть, за новую жизнь в Адыгее. Враги революции пытались в своих целях использовать национальные, родовые, бытовые и религиозные особенности адыгейского народа, но им это не удалось. Борьба, которую Нух, Ильяс, Умар и другие адыгейцы ведут за лучшую долю для своего народа, завершается победой благодаря честной и бескорыстной помощи русских. В книге ярко показана дружба бывшего комиссара Максима Перегудова и рядового буденновца адыгейца Ильяса Теучежа.

Автобиографические записки Джеймса Пайка (1834–1837) — одни из самых интересных и читаемых из всего мемуарного наследия участников и очевидцев гражданской войны 1861–1865 гг. в США. Благодаря автору мемуаров — техасскому рейнджеру, разведчику и солдату, которому самые выдающиеся генералы Севера доверяли и секретные миссии, мы имеем прекрасную возможность лучше понять и природу этой войны, а самое главное — характер живших тогда людей.

В 1959 году группа туристов отправилась из Свердловска в поход по горам Северного Урала. Их маршрут труден и не изведан. Решив заночевать на горе 1079, туристы попадают в условия, которые прекращают их последний поход. Поиски долгие и трудные. Находки в горах озадачат всех. Гору не случайно здесь прозвали «Гора Мертвецов». Очень много загадок. Но так ли всё необъяснимо? Автор создаёт документальную реконструкцию гибели туристов, предлагая читателю самому стать участником поисков.

Мемуары де Латюда — незаменимый источник любопытнейших сведений о тюремном быте XVIII столетия. Если, повествуя о своей молодости, де Латюд кое-что утаивал, а кое-что приукрашивал, стараясь выставить себя перед читателями в возможно более выгодном свете, то в рассказе о своих переживаниях в тюрьме он безусловно правдив и искренен, и факты, на которые он указывает, подтверждаются многочисленными документальными данными. В том грозном обвинительном акте, который беспристрастная история составила против французской монархии, запискам де Латюда принадлежит, по праву, далеко не последнее место.