Как просыпается Солнце - [15]
Каждый раз, как только я увижу золотистые пряди на березах, возникает мысль, что и сам я за этот год чуточку изменился.
Вначале это меня огорчало. Но однажды прикинул и понял, что прожитое время не пропало даром, что с каждым годом копятся опыт и знания. И от этого смотришь вперед уже не как прохожий в жизни, а так, словно обосновался на земле прочно, навеки. До всего появляется дело, все становится ценным и важным: и первая зеленая былинка весной, и стая журавлей в небе, и новая просека ЛЭП, прошагавшая через горы, и тихо шумящая на полях пшеница, и новый, построенный на твоей улице дом.
Осень плакала редким холодным дождем. Березы и осины бесшумно роняли листья на поникшие травы. Речные струи подхватывали осиротевшие листочки и бережно влекли туда, где путь воде преграждал упавший стволик осины. Здесь из листвы образовался плавающий ковер тускло-золотистого цвета, в который ручей вплетал все новый узор. Орнамент ковра все время менялся, и оттого мертвые листья уже казались не отжившим прахом, а живым золотом, чуть потемневшим от сырости.
Последние листья.
Первый зазимок огорчил землю, сделал ее жесткой и гулкой. Березы растеряли листву, лишь кое-где дрожат на ветру одинокие, покоробившиеся от холода листья.
В роще светло и пустынно. В таком прозрачном лесу чувствуешь себя неуютно и одиноко. В густых ельниках и пихтачах этого чувства не возникает. Там, тебе кажется, за каждой елочкой прячется какой-нибудь лесной обитатель. Поэтому и шагать по хмурому ельнику в эту пору всегда интереснее и веселее.
Летом — совсем иное: в березовых рощах больше жизни, чем в темнохвойном лесу. Они полны шумом листвы и пением птиц.
Я люблю осину, хотя и считается она третьесортным деревом, годным только на спички да дешевую фанеру. Скучен и монотонен был бы наш лес без нее. Много прелести таится в этом дереве. Зимой, когда ближе к весне начинает чуточку пригревать солнце, кора осины на вершинах становится светло-зеленой и она, как девочка-сиротка, озябшая за долгую зиму среди хмурых елок и пихт, светло улыбается. А позднее, осенью, на фоне золотистых берез и темно-синих пихт кажется пылающим костром.
Особенно прекрасен осинник в пору «бабьего лета» на старых вырубах. Листва пылает так ярко, будто охватил ее буйный пожар. Но через несколько дней живой огонь гаснет, опавший лист устилает землю, и над вырубом остается белесая полоса непролазного частокола осинок. Издалека эта полоса похожа на дым. И от него лес становится грустным, словно сгорела в нем вся осенняя радость.
Художнику такая смена красок кажется чудом. А для лесовода, не позаботившегося о восстановлении на лесосеке соснового бора, она — тяжкий укор.
Еще никогда так долго не начинался рассвет…
К нашей охотничьей избушке повадилась летать роньжа. Каждое утро с трескучими криками сновала она вокруг, подбирая выброшенные остатки пищи.
Мы не гнали попрошайку и с удовольствием наблюдали за нахальной птицей. И роньжа, чувствуя, что ей ничто не грозит, совсем осмелела и даже заглядывала через порог в избу.
Но вот однажды, вернувшись с охоты, мы не нашли птицы. На высоком пне сломанной березы, где обычно дремала на солнце роньжа, сидел крупный ястреб-тетеревятник и чистил клюв.
— Сожрал! — вырвалось у меня и, вскинув двустволку, я всадил в пернатого волка заряд дроби. В ту же минуту из-под стрехи с возбужденным стрекотом вылетела роньжа. Покружилась над поверженным врагом и отлетела далеко в сторону.
С того дня она стала пугливой. И хотя по-прежнему кормилась возле избушки, но при нашем появлении убиралась подальше. Видно, умная птица поняла, что рука человека может бросать не только кусочки хлеба и мяса.
Нам было обидно, и мы корили неблагодарную птицу, хотя и понимали, что виной всему мой выстрел.
Я высадился на маленьком полустанке. Узкая просека тянется через пятачки покосов и вырубки, ныряет в глубокие балки, снова карабкается в гору. Я пробираюсь по ней на север, туда, где на горизонте, тесно прижавшись, стоят синие горы.
Солнце перевалило за полдень, когда, забравшись на одну из вершин, я определил, куда занесли меня ноги. Слева, внизу, среди покосов, вьется темная полоска, уходящая на север, это — Черная речка. Справа уходит на юг Северка. Между ними невысокий увал со щеткой синего ельника. В прозрачном воздухе все кажется четким и близким. Но только через час утомительного пути через бурелом я выбрался к этому междуречью.
В котловине, где начинается Черная речка, большая зарастающая гарь. Черные комли деревьев, обугленные и сломанные ветром стволы — настоящее Кащеево царство!
Время близится к вечеру. Низко плывущее, негреющее солнце уже касается гребня горы, и котловина медленно погружается в полумрак. Неожиданно какое-то движение впереди привлекает мое внимание. Вглядываюсь. Два лося легко шагают через бурелом, направляясь в ельник на водопой. Звери идут бесшумно. Даже удивительно, что под ногами этих крупных животных не хрустнула ни одна ветка.
Там, где они проходят, взлетает глухарь. До него метров сто, и я только провожаю его тоскующим взглядом. Через несколько минут справа от меня снова раздается хлопанье крыльев. Солнце уже скрылось за вершинами, но на фоне неба птица видна хорошо. Глухарь летит вдоль кромки гари. Вот он поравнялся со мной, до него метров сорок. Немного пропускаю его и, вскинув ружье, жму гашетку. Вижу, как от выстрела глухарь только покачал крыльями. Снова бью из левого ствола и слышу тяжелый удар грузной птицы о землю…
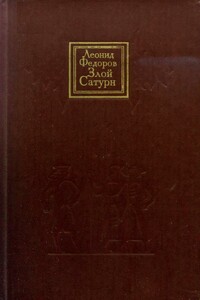
Две повести свердловского писателя объединены в книге не только как переиздания одного автора, — основные события, судьбы героев повестей связаны с Каменным Поясом, почти с одними и теми же местами уральской земли, с краем богатым, «постоянно требующим рабочих рук и хозяйского, заботливого догляду». Но сами события разделяют более двух с половиной веков. Действия заглавной повести происходят во времена Анны Иоанновны, Бирона, горнозаводчика Акинфия Демидова; повести «Конец Гиблой елани» — в наши дни.Книга адресуется широком кругу читателей.