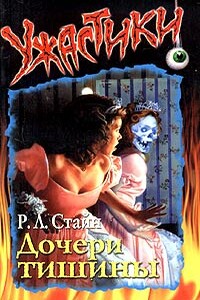— Ну что, Моть… — нетерпеливо спросила Желтоножкина.
Она стояла поодаль и была до того напугана, что в самом деле раздумала жаловаться в Москву.
— Тут уж, Моть, не до жиру, а, как говорится, быть бы живу… Ты бы мне охранника на ночь выделил, прямо ночевать страшно, а ну как меня бабахнет…
— Спите спокойно! Считай, он у нас в кулаке! Думаю, никто вас бабахать не собирается…
Клава Желтоножкина не совсем успокоилась, но ушла домой. А Пантюшкин все смотрел на письмо и размышлял, как над кроссвордом. Буквы больно корявые, будто писано левой рукой. Пантюшкин потер лоб и подумал: «Скорее бы построили в Гусихе новый комбинат. Появились бы тогда в поселке и эксперты-криминалисты. Они могут в два счета определить по почерку, сколько преступнику лет и кем он работает…» Пантюшкин погрозил кулаком невидимому врагу и стал думать дальше. Странным пером было написано письмо — не авторучкой, не фломастером… Ему пришла в голову мысль, что утро вечера мудренее, он запер сейф и направился домой.
Шагал Матвей Фомич по поселку и чувствовал, что дело по краже телевизора завершится не сегодня-завтра. Настроение поднялось. Он подошел к дому и ему даже захотелось вспомнить какое-нибудь стихотворение. Но в голове, как назло, не возникало ни строчки. И вдруг откуда-то издалека зазвучало:
Я помню чудное мгновенье…
Дальше Матвей Фомич стихотворения вспомнить не смог. Но зато вспомнил, что написал его великий поэт Александр Сергеевич Пушкин.
Пантюшкин поднял глаза и увидел, как на крыльцо поднялась Клариса. На фоне высоких пушкинских строк она выглядела довольно просто — голова, обвязанная платком, и в руке старое ведро.
Пантюшкин открыл калитку и ступил во двор. По двору от легкого ветра кружились белые перья. Одно из них взлетело и прилепилось к штанине форменных брюк.
Я помню чудное мгновенье…
И вдруг Пантюшкина пронзила догадка:
«Пушкин… Александр Сергеевич писал гусиными перьями… И это письмо Клаве Желтоножкиной написано не иначе как гусиным пером!»
Стихи исчезли из головы Пантюшкина, как хрупкие птицы ласточки. Машинально хлопнул он себя по карманам, не нашел сигарет и повернул к магазину за куревом. По дороге его кто-то окликнул. Обернувшись, он даже не сразу понял, что это продавщица Люська Авдеева. А когда понял — мелькнула неприятная догадка — неужто магазин ограбили? Прическа у Люськи растрепалась и сережки качались от быстрого бега.
— Ну? — нетерпеливо спросил Пантюшкин.
— Признаюсь, это я Бабуличу красную расческу на день Советской Армии подарила… — упавшим голосом сказала Люська. — Он на мне жениться обещал. Я не заметила, что он лысый… Когда мы с ним зимой встречались, он ходил в шляпе «пирожок»…
Преступник в старых подшитых валенках шел по спящему поселку и вез перед собой старую угольную тачку. В ней лежал громоздкий предмет, накрытый старым пиджаком. На некотором расстоянии за ним крались еще две тени, они жались к заборам, тихо переговаривались и вздрагивали от сонного тявканья собак.
Возле дома Клавы Желтоножкиной тени посовещались. Одна из них ткнулась в калитку, калитка распахнулась, скрипнув ржавыми петлями. Тени вынули из тачки поклажу и, шагая осторожно, понесли к дому.
— Ух-ух-ух… — простонал филином тот, который был в валенках. Его сообщники на тропинке вздрогнули.
— Тише ты, малина… — раздался сердитый шепот. — Опять грохнешь.
Сенная дверь распахнулась. Секунду они постояли, прислушиваясь к тишине, которую нарушал ход часов да храп дедушки Вани. Никто не помешал им на этот раз делать свое черное дело.
Когда кукушка высунулась из часов, чтобы прокуковать полночь, в доме уже никого не было.
А в душе Клавы Желтоножкиной в эту ночь не возникло никаких предчувствий. Она спала, провалившись в пуховую перину, крепко, как в молодые годы. Ей снился цветной сон. Будто она пела в хоре. На сцене поселкового клуба шел концерт. В два ряда стояли нарядные бабы и выводили старинную песню про ямщика. Клава запевала. Ухватившись за кисти черной цветастой шали, она выводила чистым голосом печальную мелодию. В первом ряду сидела ее соседка Груша и плакала, не вытирая слез. А как кончилась песня, нарядные пионеры преподнесли ей большой букет георгинов и весь зал начал в ладоши хлопать. А она подошла к самому краю сцены и кланялась. На этом и проснулась. Долго не могла понять, почему в зале продолжают хлопать, а она лежит на перине в полумраке спальни. И только когда все смолкло, она поняла, что это не люди хлопали, а часы пробили шесть.
Клава не привыкла долго разлеживаться, встала проворно и направилась во двор огурцы поливать да открывать ставни. Открыв ставни в горнице и глянув, как солнечный лучик из бочки запрыгал по обоям, она не поверила своим глазам — на пустой еще вчера тумбочке стоял телевизор. Перекрестилась Клава. Ей не померещилось. Телевизор стоял на тумбочке, как ни в чем не бывало.
Клава побежала в дом, по пути ущипнув себя за руку — не снится ли? Сморщившись от боли, она подошла к тумбочке. Но — виданое ли дело — на ней стоял не старый КВН, а телевизор с большим экраном! Рядом лежал пакет. Покосившись на спящего деда, Клава развернула серую бумагу и увидела пачку облигаций и письмо. Она хотела будить внука и мчаться к Пантюшкину, но любопытство взяло верх и, поднеся листок к окну, Клава прочитала.