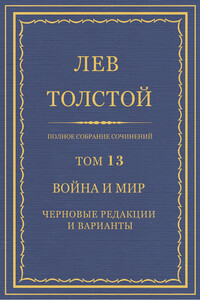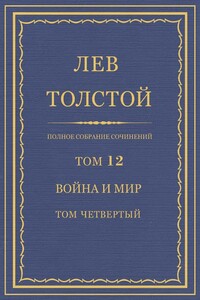Как аукнется, так и откликнется - [3]
Дело подходило уже к концу, почти объяснялось — уже воротились все в Москву, уже Пронский начал заговаривать стороною с родителями Софьи, — как вдруг на беду получают они известие из Петербурга, что в Москву едет князь Г., сын вельможи, наследующий несметное богатство, происходящий по прямой линии от Свенельда [7], полководца Игорева, прекрасный собою, что Софья была бы счастлива, если бы ему понравилась, и проч. и проч. Старики сообщают тотчас полученное известие милой дочери.
Князь Г. действительно не замедлил явиться в Москве — молодой статный мужчина, в гусарском золотом мундире, с звонкою саблею и шпорами. — Софья познакомилась с ним на первом бале у графини О. и — и - несмотря на прежнее решение свое дать руку Пронскому, несмотря на привязанность к нему, вероятно, ей самой неприметную, вздумала, может быть, из шалости, может быть, по самолюбию или просто по старой привычке, привязать князя на всякой случай к своей колеснице.
Берегись, Софья: кто погонится за двумя зайцами, тот не поймает ни одного, говорят охотники.
Князь Г., принятый в дом к ним, начал ездить довольно часто. Софье что-то померещилось (говорят, в таких случаях часто мерещится), и она начала думать внимательнее, начала рассчитывать и сравнивать. У него было 2000 душ лишних против Пронского — следовательно, Софье можно было давать с ним лишних бала два-три в год, иметь всегда модную карету, и мало ли еще какие выходы доставляют четыре тысячи трудолюбивых рук. Князь Г. имел обширные, блестящие связи в столицах; весь дипломатический корпус был с отцом его в самых дружеских отношениях. Пронский был один душою и, жив всегда в поле, не имел случая завести знакомства. — Наконец, князь Г. доставлял Софье титул вашего сиятельства, который в грубых ушах звенит очень приятно, несмотря на все справедливые толки философов, простых и трансцендентальных, о равенстве людей. Софья приметно начала колебаться, и это взорвало Пронского.
Он решился кончить дело поскорее и между тем отмстить за непостоянство.
Прежде всего надобно было отдалить князя Г. — Князь, сказать правду, принадлежал к числу сих благоразумных флегматиков, которые разогреваются очень медленно, а простывают очень скоро. Пронский, служив с ним прежде в одном полку и зная его коротко, надеялся легко склонить его на свою сторону и не обманулся в своей надежде.
Он, как старый знакомец, явился тотчас у князя, выведал стороною расположение его к Софье и узнал, что сей холодный гусар не чувствует к ней никакой решительной склонности, что любит ее теперь как умную и прекрасную девушку, однако ж не ручается за то, что будет вперед.
— Послушай, князь! — сказал ему в заключение наш хитрец. — Софья — невеста не по тебе. Ты еще не знаешь ее характера. Вот он каков… ладить тебе с нею будет трудно, успеть едва ли возможно. — Оставь ее. Ты найдешь партию и выгоднее, и сподручнее.
— Благодарю за советы, приятель! Но почему принимаете вы в ней такое участие? — спросил князь, улыбаясь.
— Я любил ее страстно, хотел жениться на ней, думал, что и она чувствовала ко мне привязанность…
— А теперь?
— Что тебе до теперь? Я раскрываю дело, сколько нужно знать тебе, сколько оно касается до тебя лично. Прибавлю еще: я говорю как товарищ, который тер с тобою одну лямку, как честный человек: Софья не годится тебе. — Наконец предупреждаю тебя, что с отчаяния, может быть, решусь и на…
— Ты хочешь грозить мне?
— Нет, я не грожу, потому что это было бы бесполезно…
Довольный князь замолчал.
— Ведь ты не любишь ее. Это, видно, только шалость. Для друга — перестань шалить, — сказал наконец Пронский, прочитав на лице его решение для себя благоприятное.
— Дал ли ты Софье повод иметь на тебя какие-нибудь виды?
— Никогда, кроме обыкновенных вежливостей, она не слыхала от меня ничего.
— Следовательно, тебе не мудрено расстаться с нею и вывести ее из заблуждения. Завтра ты будешь у Софьи. Я приеду также и заведу разговор о петербургских твоих связях или о чем-нибудь подобном и дам тебе случай развить твои мысли об этом предмете самым ясным и вместе самым учтивым образом. Понимаешь ли?
— Так и быть. Бог с тобою. Владей, владей красавицей — но послушай, братец, ты должен уступить мне непременно этого пуделя.
— Изволь — хоть двух.
Друзья распили бутылку шампанского. Как сказано, так и сделано. На другой же день Софья с досадою узнала, что князь Г. вовсе не думал о браке с нею. Она обошлась с ним ласковее обыкновенного, чтоб занавесить досаду на неудавшиеся планы, и между тем обходилась ласково, и даже нежно, с Пронским. Так было в продолжение следующего времени. Казалось бы, что здесь должно быть концу, что Пронский станет ковать железо, пока оно горячо. Кстати ли? Вдруг его стало не видно. — Говорили, что он уехал в какую-то деревню.
Наконец, чрез несколько дней он является снова. Софья принимает его с заметным удовольствием.
— Где скрывались вы так долго? Я спрашивала об вас у всех знакомых.
— Мне должно было посетить одного моего несчастного друга. Но я вознагражден за свою жертву и с вашей стороны. Я вижу теперь, что вы заметили мое отсутствие.
— Как вы злы! Разве подала я вам повод сомневаться в этом? Но оставим это. — И начали говорить о другом.
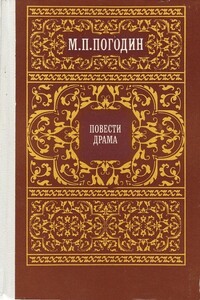
«Убийца» с подзаголовком «анекдот» впервые напечатан в «Московском вестнике» за 1827 г., ч. V, № XX, с. 374–381; «Возмездие» — там же, ч. VI, № XXIV, с. 404–407 со следующим предисловием: «(Приношу усердную благодарность А. З. Зиу, рассказавшему мне сие происшествие. В предлагаемом описании я удержал почти все слова его. — В истине можно поручиться.При сем случае я не могу не отнестись с просьбою к моим читателям: в Русском царстве, на пространстве 350 т. кв. миль, между 50 м. жителей, случается много любопытного и достопримечательного — не благоугодно ли будет особам, знающим что-либо в таком роде, доставлять известия ко мне, и я буду печатать оные в журнале, с переменами или без перемен, смотря по тому, как того пожелают гг-да доставляющие.) М.

Михаил Петрович Погодин (1800–1875) — историк, литератор, издатель журналов «Московский вестник» (1827–1830), «Московский наблюдатель» (1835–1837; совместно с рядом литераторов), «Москвитянин» (1841–1856). Во второй половине 1820-х годов был близок к Пушкину.
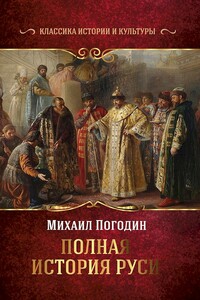
Михаил Петрович Погодин — один из первых историков, положивших начало новой русской историографии. Его всегда отличал интерес к истории Домонгольской Руси и критическое отношение к историческим источникам. Именно Погодин открыл и ввел в научный оборот многие древние летописи и документы. В этой книге собраны важнейшие труды Погодина, посвященные Древней Руси, не потерявшие своей научной ценности до сих пор.

В «Адели» присутствуют автобиографические мотивы, прототипом героини послужила княжна Александра Ивановна Трубецкая, домашним учителем которой был Погодин; в образе Дмитрия соединены черты самого Погодина и его рано умершего друга, лидера московских любомудров, поэта Д. В. Веневитинова, как и Погодин, влюбленного в Трубецкую.
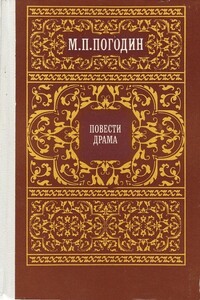
Повесть была впервые напечатана в альманахе «Урания» за 1826 г. Написана в Знаменском летом 1825 г. После событий 14 декабря Погодин опасался, что этой повестью он навлёк на себя подозрения властей. В 1834 г. Белинский писал, что повесть «Нищий» замечательна «по верному изображению русских простонародных нравов, по теплоте чувства, по мастерскому рассказу» (Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. 1, с. 94).
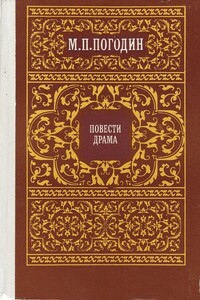
Впервые напечатано в «Московском вестнике», 1829, ч. II, с. 1–71, за подписью «М. П.». Отдельным изданием — М., 1829.Эпизод гадания на «шарах» (глобусах) был рассказан Погодину Д. М. Перевощиковым (1788–1880), математиком и астрономом, профессором Московского университета.В дневнике Погодина от 9 декабря 1828 г. имеется запись: «К Пушкину. Прочел „Немочь“. Хвалит очень, много драматического и проч.» (А. С. Пушкин в воспоминаниях современников, т. 2, с. 17).В Петербурге устраивали публичные чтения повести и сообщали оттуда Погодину: «Здесь все: и профаны, и люди мыслящие — превозносят ее, потому что находят в ней пищу» (II, 297).Белинский писал в 1835 г., что «Черная немочь» «есть повесть совершенно народная и поэтически нравоописательная», что в ней представлена «полная картина одной из главных сторон русской жизни, с ее положительным и ее исключениями» (Белинский В. Г.
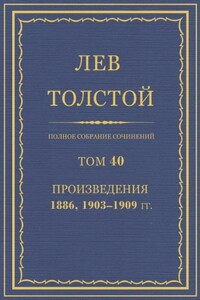
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
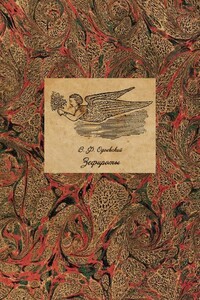
Книга впервые за долгие годы знакомит широкий круг читателей с изящной и нашумевшей в свое время научно-фантастической мистификацией В. Ф. Одоевского «Зефироты» (1861), а также дополнительными материалами. В сопроводительной статье прослеживается история и отголоски мистификации Одоевского, которая рассматривается в связи с литературным и событийным контекстом эпохи.
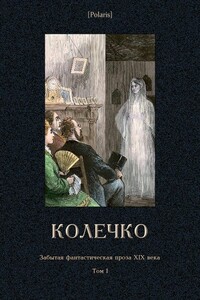
В сборник вошли впервые переиздающиеся произведения первой половины XIX века — фантастические повести Ф. Ф. Корфа (1801–1853) «Отрывок из жизнеописания Хомкина» и В. А. Ушакова (1789–1838) «Густав Гацфельд», а также рассказ безвестного «Петра Ф-ъ» «Колечко». Помимо идеи вмешательства потусторонних и инфернальных сил в жизнь человека, все они объединены темой карточной игры.
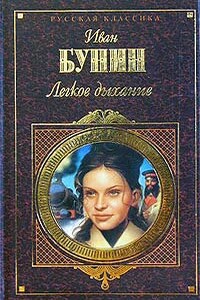
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.