К понятию гения - [3]
Что делать? Если он согласится скрепя сердце, раздастся дружный хор сирен "Он с нами, и он гений!" Можно не сомневаться, что талант его - и в самостоятельности, и в подлинности - погиб. Если откажется, тот же хор объявит его провинциалом, далеким от "блистательных открытий века", невеждой или глухим завистником.
Еще Хемингуэй классически рассорился на этом пути с Гертрудой Стайн. Но все же следы ее ворожбы сказались каким-то оцепенением в его стиле, двигавшемся словно под гипнозом ритма и повтора. С тайным злорадством отметили потом это многие его пародисты. Стряхнуть с себя наваждение ему, видимо, так до конца и не удалось. Но сам опыт этого общения вышел достаточно подозрительным; относиться к нему стали осторожнее.
Вместе с ним потускнел и следующий родственный ему прием - присоединение.
Ведется, скажем, какой-нибудь список бесспорных имен, и вдруг в конце или как-нибудь в середине является еще одно или два. Невзначай, как бы сами собой разумеющиеся, давно, мол, пребывающие в этом ряду. "Все великие новаторы музыкальной мысли, подобные Берлиозу, Вагнеру, Мусоргскому и Шонбергу...", или: "в наше время проповедники пошлости уже не решаются открыто выступать против искусства Гольбейна и Рубенса, Рафаэля и Пикассо", или: "художественный мир Брехта отличен от шекспировского, в нем... " и пр. Позвольте, откуда Шонберг, почему Пикассо? А ни почему - просто "тоже". "Это признает весь мир!" Попробуйте проверить, что это за "весь мир"; мгновенно начнут обрисовываться очертания того же знакомого типа.
Несмотря на крайнюю простоту этого приема, действие его все еще остается в силе. Никто не станет ведь возражать всякий раз по пустякам из-за каких-то безответственных упоминаний: но когда они выполнят свою задачу, спор пойдет уже о другом, не с той опасной для соискателей точки, которую удалось пройти, а о воображаемых отличиях и сходствах их с действительными новаторами, что и требовалось доказать.
Тем более что присоединиться можно не только к именам, но к чему угодно уже известному, например к событию, поразившему мир, которому гений посвятил свое создание или прямо трагически выразит его какой-нибудь искромсанной дрянью, подчеркнув смятение души, - кто осмелится отбросить? Людям в момент печали не до того; отвергнуть загадочное сочувствие было бы и невежливо. А когда обнаружится глумление, не всякий - далеко нет! - решится признать обман; да и зачем, в самом деле? Лучше уж обойти его стороной, тем более что гений, как выясняется, перешел уже в другой "период".
Хотя с течением времени снобизм и этого стиля обнажается острее. Сначала, когда все было ново в авангарде, еще можно было смеяться вместе с друзьями над раскрытыми ртами непосвященных, как об этом хорошо рассказывает в своих записках Стравинский: "Из Неаполя я вернулся в Рим и провел чудесную неделю у лорда Барнерза. После этого надо было возвращаться в Швейцарию, и я никогда не забуду приключения, которое случилось со мной на границе в Кьяссо. Я вез с собой свой портрет, незадолго до того нарисованный Пикассо. Когда военные власти стали осматривать мой багаж, они наткнулись на этот рисунок и ни за что не хотели его пропустить. Меня спросили, что это такое, и, когда я сказал, что это мой портрет, нарисованный одним очень известным художником, мне не поверили. "Это не портрет, а план", - сказали они. "Да, это план моего лица, а не чего-либо другого", - уверял я. Однако убедить этих господ мне так и не удалось. Все эти пререкания отняли много времени, я опоздал на свой поезд, и мне пришлось остаться в Кьяссо до следующего утра. Что же касается моего портрета, то пришлось отослать его в Британское посольство в Риме на имя лорда Барнерза, который впоследствии переправил мне его в Париж дипломатической почтой".
Тут чем далее, тем чаще возникало сомнение: а что, быть может, эти полицейские не такие уж были и идиоты - "эти люди" среди немыслимых маэстро. Портрет-то ведь и правда был не лицо, а "план", чертеж лица, да еще такой, что при всем глубоком почтении к оригиналу угадать его было невозможно; может быть, их недоумение давало и повод как-то разнообразнее судить о самом этом черчении... Но допустить такую мысль значило бы опуститься - извините - до "первобытной наивности", незнакомой с открытиями века, и т. д.
В той же книге воспоминаний (заимствовавшей заглавие, как большинство сочинений авангардистов, из каких-либо прежних произведений) "Хроника моей жизни" Стравинский совершенно спокойно называет Н. А. Римского Корсакова "бедный мой учитель", говорит о том, что вся школа, им воспитанная, была "национально-этнографической эстетикой" и т. п. Стоит только вообразить себе: этнография - это "Сказание о граде Китеже", а колченогая "Свадебка" - не этнография (на самом деле едва ли не худшая из этнографии, потому что экзотическая, то есть разглядывающая народ как диковинку для упражнений "современного стиля"). И все это сопровождается еще предисловиями в духе: "как Вы правы, дорогой метр, но извините нас, мы тоже, по мере сил... "
Между тем те самые круги, которые когда-то поощряли метра в его иронических опытах над музыкой, вдруг теперь грустно и как-то непричастно начинают писать, что, пожалуй, Стравинский был слишком экспериментален, что современные оркестры "крайне неохотно" включают его в свой репертуар и т. п. Любопытно, каково было ему это от них выслушивать.

- видный русский революционер, большевик с 1910 г., активный участник гражданской войны, государственный деятель, дипломат, публицист и писатель. Внебрачный сын священника Ф. Петрова (официальная фамилия Ильин — фамилия матери). После гражданской войны на дипломатической работе: посол (полпред) СССР в Афганистане, Эстонии, Дании, Болгарии. В 1938 г. порвал со сталинским режимом. Умер в Ницце.

«Охлаждение русских читателей к г. Тургеневу ни для кого не составляет тайны, и меньше всех – для самого г. Тургенева. Охладела не какая-нибудь литературная партия, не какой-нибудь определенный разряд людей – охлаждение всеобщее. Надо правду сказать, что тут действительно замешалось одно недоразумение, пожалуй, даже пустячное, которое нельзя, однако, устранить ни грациозным жестом, ни приятной улыбкой, потому что лежит оно, может быть, больше в самом г. Тургеневе, чем в читателях…».
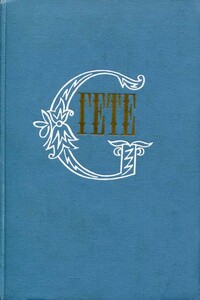
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.


