Избранные минуты жизни. Проза последних лет - [5]
— Ну и что ж, что в глаза не видели, с ним вы сразу общий язык найдете.
И действительно.
С первых же слов Лев Алексеевич мне:
— Пожалуйста, о чем речь, только у меня… — и, прервавшись на полуслове: — Знаете что! В вестибюле сейчас мальчик у доски объявлений. Вот у кого уйма Цветаевой, если он здесь еще.
Сбегаю по лестнице в вестибюль. Стоит!
Чубастенький, ушастенький мышонок, шейка из свитера, как мизинчик. Расписание мероприятий переписывает себе в блокнотик.
— Простите, пожалуйста. Охота пуще неволи, я в поисках Цветаевой.
— А что именно вас интересует?
— Все! Кроме публиковавшегося у нас.
— Все? — удивился мышонок. — А как у вас со временем? Я живу недалеко отсюда. И поговорим по дороге. Давайте познакомимся. Меня зовут Гаррик.
Прошу обождать минутку, поднимаюсь на второй этаж ко Льву Алексеевичу поблагодарить его. Он приглашает меня на вечер «молодого поэта Окуджавы, стихи под гитару». Благодарю его еще раз (а сам: «Под гитару?! Обойдусь».).
Выходим с Гарриком из музея. Я ему — о себе, он мне — о себе.
Окончил десятилетку. Никакие вузы на дух ему не нужны. Самообразовываться будет. Устроится сторожем или на вешалку и будет самообразовываться. Дома из-за этого тарарам.
— Да, кстати, ни мамы, ни сестры нет сейчас, тетя одна, а она ненормальная. Не обращайте на нее внимания.
Подходим к дому. Три ступеньки вниз, полуподвальное, среди бела дня при лампочке помещение, приспособленное под кухню.
В тот же миг, как мы вошли, приоткрылась противоположная входной дверь, и на нас высунулись раскаленные гневом глаза.
— Где тебя носит?! Ты же ушел — девяти не было, а теперь? — и, зыркнув на меня: — Находишь себе компанию.
— Прекра-ти! — огрызается Гаррик. — Постороннего постеснялась бы хоть. — А ко мне: — Проходите, проходите.
Скрепя сердце прохожу.
Комната — сосиска. За окном на уровне с подоконником — тротуар: ноги прохожих, автомобильные выхлопы в форточку.
Дворницкой бы здесь быть, метлы, лопаты хранить, а не белоснежным застеленные постели. Одна из которых под серым солдатским одеялом. И над ней в головах метровый фотопортрет Цветаевой. А на одеяле книжки. «Мы» Замятина, что-то Милюкова об интеллигенции.
Гаррик откидывает край одеяла. Тащит чемодан с полуоторванной крышкой, переполненный машинописными текстами.
— Вот. Одна Цветаева. А меня кормить сейчас будут.
Кастрюля уже на столе, суп в тарелке, тетя нарезает хлеб.
— Садись иди. Посмотри, на кого ты похож стал!
Гаррик молча садится. Молчит и тетя.
И надо же было раздаться телефонному звонку. Дожевывая кусок, Гаррик вскакивает, снимает трубку.
— Я. Здравствуй. Конечно! Нет-нет, я сейчас же! — кричит Гаррик.
— Через мой труп! — кричит тетя, вскочив из-за стола.
— Я же туда-обратно! У меня же гость! — кричит Гаррик.
Кончается тем, что он выхлебывает суп чуть ли не через край и, схватив куртку — в дверь.
Я остаюсь заложником.
Делаю вид, что уткнулся в чтение. Вдруг от стола слабым голосом:
— Вы, я вижу, интеллигентный человек. Вы меня извините. Гаррик — наше несчастье. А началось с реабилитации отца, судьбу которого от него скрывали. Годы-то, вы же знаете, какие были.
И подходит, подсаживается ко мне.
— Говоря откровенно, где гарантия, что не повернут обратно? Сегодня Хрущев, а завтра? Опять головорез какой-нибудь. Почему нет? А Гарьке хоть кол на голове теши! Поговорите с ним. К вам, я вижу…
Прервал нас вернувшийся Гаррик. Он скинул куртку, вытащил из-под свитера пухлую папку.
— «Доктор Живаго». Четвертый экземпляр на три дня дали. Глаза сточишь.
И пошел к двери за чем-то. Но задержался:
— А у кого останавливаетесь в Москве?
— У Ходасевич, Анны Ивановны.
Встрепенулся:
— Да? Того самого Ходасевича?
— Того самого.
— Очень старенькая?
— Я бы не сказал. Во всяком случае, совсем без старушечьей постности.
— А можно с ней познакомиться?
— Только сегодня если, до вечера. Вечером уезжаю.
— Ах, черт, а у меня «Живаго». Сейчас подумаем.
И вышел.
Воспользовавшись минутой, тетя мне: — Поговорите с ним. Вас он может послушаться. Я вас очень прошу.
Знала бы тетя, что Гарька ее ни в сторожа, ни на вешалку не пойдет. Поступит! И не куда-нибудь, а в Тарту, на филфак, к Лотману. Но и Лотман не убережет его. С последнего курса исключат. А «интеллигентный человек» ахнет только, услыхав по Би-би-си, что в Москве арестован Габриэль Суперфин.
Наезжая в Москву, останавливался чаще всего у Анны Ивановны Ходасевич. В ее домике-гномике на Смоленском бульваре.
Пряменькая, со старательно уложенной прической, в маркизетовой с бабушкиным рукавом и высоким воротничком блузке. Старушечьей постности в ней и тени не было.
Бунину за то, что он «чмокнул ее в коридоре, как горняшку», простить не могла.
О Берберовой: «Владя говорил, что она без спереди и без сзади, а сам улизнул с ней от меня. Уже из-за границы написал: «Мы расстались с тобой в быте, но не в бытии»».
А из стихов Берберовой напомнила две строчки: «Я немножечко раскосая, сразу на двоих гляжу».
Стихи и сама писала. И Владислав Фелицианович «одобрял иногда, но чаще журил». Особенно за глагольные рифмы. Однажды Анна Ивановна сослалась на Пушкина. Он засмеялся. «Пушкину можно, даже мне можно, а тебе никак нельзя».

Вторая часть романа "Мне бы в небо" посвящена возвращению домой. Аврора, после встречи с людьми, живущими на берегу моря и занявшими в её сердце особенный уголок, возвращается туда, где "не видно звёзд", в большой город В.. Там главную героиню ждёт горячо и преданно любящий её Гай, работа в издательстве, недописанная книга. Аврора не без труда вливается в свою прежнюю жизнь, но временами отдаётся воспоминаниям о шуме морских волн и о тех чувствах, которые она испытала рядом с Францем... В эти моменты она даже представить не может, насколько близка их следующая встреча.

Они встретили друг друга на море. И возможно, так и разъехались бы, не узнав ничего друг о друге. Если бы не случай. Первая любовь накрыла их, словно теплая морская волна. А жаркое солнце скрепило чувства. Но что ждет дальше юную Вольку и ее нового друга Андрея? Расставание?.. Они живут в разных городах – и Волька не верит, что в будущем им суждено быть вместе. Ведь случай определяет многое в судьбе людей. Счастливый и несчастливый случай. В одно мгновение все может пойти не так. Достаточно, например, сесть в незнакомую машину, чтобы все изменилось… И что тогда будет с любовью?..

Эта книга не только о фашистской оккупации территорий, но и об оккупации душ. В этом — новое. И старое. Вчерашнее и сегодняшнее. Вечное. В этом — новизна и своеобразие автора. Русские и цыгане. Немцы и евреи. Концлагерь и гетто. Немецкий угон в Африку. И цыганский побег. Мифы о любви и робкие ростки первого чувства, расцветающие во тьме фашистской камеры. И сердца, раздавленные сапогами расизма.

Каково быть дочкой самой богатой женщины в Чикаго 80-х, с детской открытостью расскажет Беттина. Шикарные вечеринки, брендовые платья и сомнительные методы воспитания – у ее взбалмошной матери имелись свои представления о том, чему учить дочь. А Беттина готова была осуществить любую материнскую идею (даже сняться голой на рождественской открытке), только бы заслужить ее любовь.
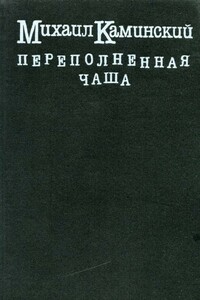
Посреди песенно-голубого Дуная, превратившегося ныне в «сточную канаву Европы», сел на мель теплоход с советскими туристами. И прежде чем ему снова удалось тронуться в путь, на борту разыгралось действие, которое в одинаковой степени можно назвать и драмой, и комедией. Об этом повесть «Немного смешно и довольно грустно». В другой повести — «Грация, или Период полураспада» автор обращается к жаркому лету 1986 года, когда еще не осознанная до конца чернобыльская трагедия уже влилась в судьбы людей. Кроме этих двух повестей, в сборник вошли рассказы, которые «смотрят» в наше, время с тревогой и улыбкой, иногда с вопросом и часто — с надеждой.

Страдание. Жизнь человеческая окутана им. Мы приходим в этот мир в страдании и в нем же покидаем его, часто так и не познав ни смысл собственного существования, ни Вселенную, в которой нам суждено было явиться на свет. Мы — слепые котята, которые тыкаются в грудь окружающего нас бытия в надежде прильнуть к заветному соску и хотя бы на мгновение почувствовать сладкое молоко жизни. Но если котята в итоге раскрывают слипшиеся веки, то нам не суждено этого сделать никогда. И большая удача, если кому-то из нас удается даже в таком суровом недружелюбном мире преодолеть и обрести себя на своем коротеньком промежутке существования.